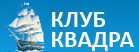Nocturne
Уже поздний вечер. За окном кромешная тьма, легкий ночной ветерок каса-ется рук, как будто рядом ты и это прикосновение твое.
Как тогда - только тишина и глаза, то что в них, милое лицо и обозначенная чувствами улыбка, тихие слова, в которых нет смысла, а может и необходи-мости. От сердца к сердцу, прямо и на любом , как теперь понимаешь, рассто-янии.
Слабый желтоватый свет настольной лампы падает на твое фото, выхваты-вая, почему-то, только его из ряда других. Это приближает тебя, а бархатная чернота делает все таинственным и необычным, как всё, что было, как всё, что будет...
В голове мягкая лирика, появившаяся оттуда, из того, о чем знаешь и пом-нишь только...
Две чашки кофе, передо мной в черных глазах вся будущая жизнь! Страш-но в них и как сладко смотреть!
Или - мороз, Тбилисская улица, легкое твое пальто и моя меховая куртка. Над нами звездное бесконечное небо...
Или ещё раньше... Первый глоток будущей свободы, я напротив тебя, улыб-ка, неловкие жесты обоих и обретение смысла жить!
Написанные письма стремятся к тебе, а я сам уже там!
Всматриваюсь в тебя, целую тебя!
Иду!
Весенняя песня
С самого утра было спокойно, но к полудню поднялся ветер. Он раскачи-вал длинные, набухшие зелеными почками ветки-плети старой березы и шуршал ими о стену. Этот шум не давал возможность продлить утренний сон и мешал думать о наступающем дне:
- Нужно его провести с пользой, а то пролетит и никакого удовольствия. Да и выполнить то, что намечал, неплохо.
Опять словно толстой метелкой по стене – береза раскачивалась в такт свежим порывам и даже пробовала кружиться. Ну, не взаправду кругами, а так – наполовину. Сначала чуть влево, потом в обратную сторону. Как в танце! Красивые, гибкие космы плавно обвивали белый ствол, выделяв-шийся сквозь голые ветки.
Вдруг с крыши соседнего дома сорвалась какая-то птичка и волнообраз-но, за два, три приема, пересекла двор и внезапно исчезла в зарослях возле старого, прогнутого сарая.
- Вроде бы скворчиха, - подумалось, - скворцы более крупные и рисунком позаметнее, а эта серо-коричневая... Вот и природа оживает.
Порывы стали реже, мрачное небо начало разбиваться на отдельные, по-ка огромные куски. Между облаками все чаще и чаще прорывались лучи и серые краски отступали прочь, давая место загадочному зеленовато-желто-му цвету то на крыше дома, возле кирпичной щербатой трубы, на стволах высоченных тополей и просто на грунтовой дорожке, пересекавшей двор по диагонали.
Что-то медленно менялось, вселенная незаметно проворачивалась вокруг оси, сдвигая все, что он видел, на милиметр, на йоту. Разглядеть эти изме-нения старыми глазами было уже невозможно, но душой, внутри слабо ти-кающего организма...
- Вот опять шум дерева, скрип, скорее, писк трущихся веток. Опять эти
странные пятна побежали по земле. Пахнет чем-то свежим. Или это с по-лей? Странно, почему скворчиха не летит обратно? У неё, что там, дом? Или сквозь кусты и дальше? Жаль, толком не разглядел. А, если запеть, просвистеть ей? Может, прилетит? – давно к нему не приходили в голову такие сумасбродные идеи.
- Нога что-то немеет, затекает, по улице бы пройтись.
Старый скворец спрыгнул из домика на ветку, с шумом встрепенулся, расправил слежавшийся костюм, и, задрав голову вверх, залился трелью. Первые такты были хрипловатыми, затем все ярче, сильнее и цветастее зазвучали рулады вечной песни, растекаясь по зазеленевшей округе, дос-тигая ушей всего живого на земле...
Докатились они и до скромной красавицы, спрятавшейся до поры в кус-тарнике. Она выглянула наружу – на высокой березе самозабвенно пел скворец. Клюв – в небо, к солнцу, перышки на горле сверкали цветами радуги, трепет его крыльев слился с трепетом её сердца!
Пение, как серебро, мелкими шариками, раскатывалось по вселенной, ударялось о дома, далекий лес и перламутровой россыпью возвращалось назад, в их двор, проливая на душу негу и нектар этих дней!
Старый скворец пел свою последнюю весну!
Вишневый сад
Старожилы этой улицы настоятельно говорили, что в доме за пустырем не стоит снимать квартиру, но я не понимал почему. А ответа от них никакого не получил. Уклонились они от разговора. Ну, а место там тихое, да и две комнаты с кухней - маленькая спаленка и зал с печкой. Добираться до инсти-тута стало удобнее, так как конечная остановка рядом.
Окраина большого города была похожа на зеленый оазис среди шумных и дымных кварталов и я, поговорив с хозяином, переехал в мае на новое место. Большой частный деревянный дом, разделенный на две половины, был спря- тан за покосившимся замшелым забором и утопал в беспорядочной зелени кустов, сирени и одичавших яблонь. В большей половине с отдельным вхо-дом жил квартирант холостяк, а в меньшей, отделенной высоким забором, я. Дом длинной стороной стоял вдоль улицы, на которую выходило по одному окну – одно соседское, другое моё. Другие смотрели немытыми стеклами в хаотично заросший двор. Далее взгляд вырывался на простор широченного пустыря, заросшего огромными лопухами, крапивой и колючим кустарни-ком. На моем дворе росло несколько старых вишен, чему я обрадовался и с детским восторгом предвкушал вишневую трапезу в середине лета. Но был лишь конец мая и ягодки были впереди.
Обустроившись с комфортом и уютом, которые позволялось иметь в конце тридцатых, я после пребывания на работе, среди чутко настороженных ин-теллигентов, приходил в свои уютные апартаменты и готовил ужин. Пиком
гастрономических устремлений были обычно килька или хамса, но когда я ждал её, то квартира пропитывалась дня на три запахом жареного мяса с кар-тошкой, т.е. кровяной колбасы с луком и помидорами, а в воздухе долгое время носились постепенно исчезающие флюиды её духов, платья и загорелого тела.
В особо одинокие вечера меня тянуло к перу и тогда с огромным удоволь-ствием я погружался в лучший, чем за окном, мир, где не было ни тоскливой, безнадежной тревоги, отсутствовали доносительство и страх, где все зани- мались мудрыми разглагольствованиями и любовью.
Чеховский сад наливался соками, бока вишенок стыдливо краснели под возбужденный гул социалистического строительства, забор ещё более зарас-тал кустарником, охраняя меня от профессионально любопытных соседей, и только эгоистичной и злобной крапиве было наплевать на то, какой нынче режим и кого мы вчера разоблачили.
Поздними вечерами под ударами ветра вишни скрипели, вздыхали и, каза-лось, что это замогильные голоса, тяжкие стоны погребенных людей, безвре-менно ушедших по злой воле. Сквозь тьму они протягивали свои изломан-ные руки к нам, кто пока ещё здесь, ещё жив и наивно полагает, что так будет вечно.
В такие минуты страх обволакивал меня и я понимал, что одному тяжелее. Мрачные мысли и предчуствия подкатывались ближе и ближе, но я так и не смог отгадать их смысл и истоки.
В то сладкое лето она согласилась остаться... Запахи мокрой после дождя зелени, деревянное крыльцо под крышей, на котором мы просидели до утра, сладкий шепот любимого голоса, разговоры о свадьбе – всё это осталось со мной навсегда и, видимо, спасало и спасло меня в тяжкие времена.
Я не был любопытен, но нельзя было не заметить, когда сосед то ночью, то рано утром, часто и по выходным, хлопал дверью и быстро уходил из дома, но всегда в разные стороны. Один раз я выглянул - он шел к черному автомо-билю, стоявшему далеко, за пустырем. Его ждали двое.
Врожденная интеллигентность не позволила сразу лезть с предложениями и расспросами к соседу. Но однажды в воскресенье он вышел опять ночью. Я ещё не спал и вычитывал свою лекцию. Шел холодный проливной дождь и, как было видно из окна, сосед, сгорбившись, пошел куда-то через пустырь, сопротивляясь бешеному ветру.
Утром, руководимый лучшими чувствами, первый раз постучал ему в дверь. Заспанные глаза вцепились в меня настороженным взглядом.
- Извините, я случайно видел, что вы далеко ходите к машине. Не стесняй-тесь, пусть подьезжает поближе - у меня крепкий сон, вы не потревожите меня.
Дверь полностью открылась, крепкая мужская рука пожала мою и сосед сказал:
- Огромное человеческое вам спасибо! Вы такой же симпатичный и внима-тельный, как и тот, кто жил здесь до вас. Спасибо!
- А почему он выехал? - разлюбопытствовался я.
В ответ дверь закрылась и я услышал: "Прощайте!"
К калитке подьехали этой же ночью. Били и допрашивали трое суток и я своей кровью подписал протокол, где обвинялся в шпионаже в пользу италь-янской разведки /преподавал в Университете латинский язык/ и попытке раскрыть методы работы органов НКВД.
В 1956, через 23 года я, Божьей милостью освободившись, нашел адрес той женщины, но крепко выпивший молодой человек угрюмо прохрипел сквозь дверную щель:
- Она умерла в лагере, в Ухте. Я родился там. А что?
Соседа своего встретил на базаре. Он властно распоряжался торговыми ря-дами, разгонял с помощью милиции оборванных попрошаек и старушенций, продававших разный хлам.
- Видимо, директор рынка, - подумал я.
Наши взгляды встретились!
- Узнаешь, подонок, соседа по вишневому саду? Тебе теперь не жить! – вык-
рикнул я и со всей ненавистью и силой, на которые был ещё способен мой дряхлый организм, вцепился в его гимнастерку. Он еле вырвался и спешно исчез.
Лет пять спустя после его почетных похорон, знакомые продавцы с того же рынка сказали:
- Работал в слежке, в НКВД. Благодарный был для нас человек! Любил лю-дей! Да как-то занемог скоро, боялся выходить из дому - болезнь у них такая есть.
Кстати, я так и не попробовал тех вишен. Весь квартал и дом тот снесли. Да и не могу я их есть - сок красный течет, а когда меня били ногами, то на столе
тарелка с вишнями стояла.
Времен связующая нить
Старая керосиновая лампа много лет одиноко стояла в углу, в чулане, среди таких же старых, давно известных ей вещей. Каждое утро, когда первые роб-кие лучи бесшумно пробирались сквозь косо заколоченное окошко, лампа, скрипуче покашливая за пылью и паутиной, вежливо здоровалась с соседями - позеленевшей медной керосинкой, гордившейся своей сомнительной род-ственной связью с драгоценными металлами, кивала помятой кружке – квар-те, так звала её жившая здесь хозяйка, приподнимала широкую шляпу своего отражателя перед замшелым кожаным хомутом, висевшим высоко по причи-не своей прямой принадлежности к почитавшемуся в этих краях крестьянско-му труду.
Старые вещи находились в прочной дружбе с лампой. Сотовые рамки, две дубовые бочки, сохранившие стойкий аромат нашпигованных чесноком сала и окороков, прохудившиеся, некогда курчаво-волосатые загорелые полушуб-ки - все они были обьединены между собой благодарной памятью о кипев-шей здесь ранее жизни, о двух людях - высоком старике и юркой краснощё-кой крестьянке. К ним летом сьезжались дети, внуки, правнуки. Небольшой дом наполнялся голосами, иногда песней, в дни семейных торжеств хрипло-вато звучал единственный на всю округу патефон. Гости были из Питера, Ря-зани, Новосибирска и Бреста, Кременчуга и Минска. Шесть дочерей с зятья-ми, сын с женой. Всем хватало и работы и еды, места для сна и для веселья. Старики роднили и связывали большую семью.
Лампа была выше всех, так как она давала свет и немножечко тепла. Деся-тилетиями от зари до глубокой ночи она наблюдала тяжкий и монотонный, изматывающий и нечеловеческий труд закабаленных крестьян свободной страны, получавших гроши за эту каторгу, слушала рассказы их дочерей и внуков, корпевших за идею о грядущем братстве в продымленных, душных городах и надеявшихся хоть на родине получить глоток чистого воздуха. Здесь, где впервые увидели рассвет, услышали ржанье коней и мычанье буре-нок, ощутили босыми ногами мокрую после дождей траву, вдохнули зовущий сладковатый запах клевера и столетних лип.
Река Времени неуклонно уносит ладьи человеческого бытия в Лету и мно-гие забывают многое, Так есть и так, к сожалению, будет.
И эта счастливая крестьянская пара ушла туда. Как-то сразу распалось все. Грустное безмолвие и тишина окутали этот дом.
Старая керосиновая лампа вздохнула, она рассказала бы – о трудной, но размеренной жизни до революционных потрясений, о кровавой братоубий-ственной гражданской войне, о поляках, пришедших полакомиться чужим трудом, о невиданном, чудовищном мракобесии Сталина и его приспешни-ков - палачей в двадцатых, тридцатых годах, об апофеозе человеконенавист-ничества во время Великой Отечественной войны, о бездарных фельдшер-ских экспериментах над всё ещё теплившимся самобытной жизнью крестьянством.
Вокруг не было ни души.
События, людские страсти, на мягких крыльях времени пролетали над зас- нувшим гнездом и, казалось, уже ничто и никогда не потревожит этот вче-рашний мир.
Но однажды послышались шаги, лампа сквозь старческий сон услышала голос, похожий на те, звучавшие когда-то в этом доме. Скрежет отворяемой двери и - о Чудо! Теплые руки внука взяли и приподняли её почти так же вы-соко, как тогда!
"Она светила им в темноте, - сказал продолжатель Рода, - пусть послужит и нам!"
Связь времен не распалась!
Гипнотизёр
У хозяев, где мы снимали квартиру, было два сына, 14 и 16 лет. К ним час-то приходили друзья, то ли заниматься вместе, то ли поиграть во что. Мне, 6-летнему было интересно вертеться среди взрослых. От них можно было ус-лышать много полезных вещей - как рыбу майкой в луже ловить, как из этой лужи на плоту в Америку отправиться, как гвоздём открыть мастерскую хо-зяина и построгать втихаря инструментом, то ли фебелем, то ли хебелем - не запомнил. В их компании скоро появился новый тип, чуть старше, чуть по-выше, рыжий, с холодными выпуклыми голубыми глазами и он так выгова-ривал "Р", что я сначала думал, что он издевается над нами. Такую "Р" я слы-шал только от Сёминого папы и то, когда я был во дворе, а его папа дома. Если я заходил к Семе домой, то никакого такого "Р" я у них не слышал.
Но я не об этом. Этот тип интересно рассказывал, но все больше о рыбах или блюдах из них. Иногда спрашивал, будем ли мы что-нибудь в городе по-купать? Тогда он охотно пойдет с нами. Обычно денег ни у кого не было и все оставались на местах.
Я как-то обзавелся 60 копейками, случайно найдя их в маминой коробочке для денег, и, слушая трепню старших, сладко думал о сливочно-мороженой сиесте. Рыжий тип, видимо, на нюх определил, где у меня деньги и, похлопав по тому месту, неожиданно предложил заморозить меня, но не совсем, а гип-нозом, прямо на скамейке перед домом, но за деньги.
- Я по нашему древнему роду гипнотизёр, - завершил он под одобрительно гудевшую публику. Из меня быстро вытрясли все копейки и усадили перед домом.
Была поздняя осень и холодное бледно-желтое солнце еле освещало крыши домов и верхушку уже облезшего тополя.
Рыжий красавец повернулся два раза на месте, поднял воротник вельвето-вой куртки и, бешено глядя в меня веселыми глазами, грозно произнес:
- Сейчас ты уснешь и тебе станет холодно, вернее, сейчас тебе станет холод-но и ты уснешь.Только смотри на блестящее и думай о хорошем.
Все разошлись.
Через час, спрятав ладони под мышками, согнувшись в колобок от жутко-го холода я громко отбивал зубами латиноамериканскую самбу. Блестящего в темноте я нигде найти не мог, зато услышал слева от меня, из-за угла мерз-кий и довольный хохот: "Слушай, я уже замерз от мороженого, лихо по две пачки каждому сьесть. Пойду сниму с дурака гипноз, завтра на пирожное заморозим".
Знак Провидения
Фридрих или, как его звали среди славянской родни, Фридрих Гансович Готтлер иногда приезжал к родственникам жены своего сына в Белоруссию, в тихую, заброшенную деревеньку с красивым названием - Вишенку. Его мать Берта уже пару лет как умерла, а отца он не помнил. Она сказала ему перед смертью, что было бы неплохо найти хотя бы район, где он погиб. Добавила, что разузнала от соседа по Вайльдорфу, инвалида войны, что погиб Готтлер в 44-ом, где-то в Белоруссии, недалеко от Минска.
После обильного застолья выходил он за околицу и шел к речушке, нес-лышно петлявшей возле густого леса, темной стеной возвышавшегося вдоль крестьянских дворов. Когда было ветрено, лес глухо шумел, верхушки огром-ных мохнатых елей качались, издавая скрип. Этот зеленый шум был похож на чей-то шёпот, здесь можно было слушать и слышать то, чего не было в Германии - звуки природы, голоса вечности, наблюдать божественную палит-ру этой земли.
Та осень была как и все - легкая прохлада к вечеру, солнце садилось в тучи, обещая перемену к дождям. Туман белесой дымкой, сгущаясь на глазах, заво-евывал себе ночное ложе на прибрежном лугу.
Готтлер решил изменить свой привычный маршрут и пойти вверх по реке, в места дикие и по этой причине не особо посещаемые. Река в километре от де-ревни делала большую дугу, исчезая в ивовых и ольховых кустах. Этот путь он знал намного хуже и решил спрямить его, перейдя большой топкий луг, а затем проселочной дорогой вернуться в село, но с другой стороны. Багровый диск солнца уже коснулся кромки леса и длинная тень накрыла землю. От ре-ки потянуло холодом, ветер полностью стих.
В 30 метрах от себя, возле обмелевшего старого русла Фридрих увидел не-понятную цепочку каких-то ржавых столбиков, торчавших из травы. Этот ни-зенький заборчик тянулся метров на тридцать параллельно старице, пример-но в двух шагах от кромки бывшего берега. Подошел. Прошелся вдоль этого странного сооружения /чуть выше щиколотки/. Присел, потрогал рукой шер-шавую на ощупь и ребристую по вертикали поверхность. Снял с одного из столбиков мох, оторвал проросшую сквозь жесть траву, внимательно осмот-рел. Вдруг понял!
Вся эта ржавая цепь, вросшая в землю, была составлена из десятков зако-панных наполовину металлических ранцев из-под немецких противогазов. Заполненные речным песком и плотно поставленные в шахматном порядке, они когда-то являли собой то ли бруствер от пуль, то ли ограду солдатского погребения. Это явно был знак минувшей войны и печальная память погиб-ших не по своей воле немецких граждан.
Готтлер разломал тонкую жесть одного из ранцев, потом второго... Стем-нело, когда, движимый неясным и каким-то тревожным чувством, он нашел в восьмом по счету ранце остаток желтой бумажной трубочки. Дрожащими ру-ками развернул его и увидел на исчезающем свету еле заметные обрывки слов по-немецки -
- Прости, Берта....я не один....сыну моему....всем.. Вайльд....
Прощай, твой уже навсегда Ганс..........
Словно тяжелым молотом ударило в висках! Послание из Вечности! Отту-да, куда ушли в годы проклятой войны миллионы!
Крик мятущейся Души Отца!
Неслышный шёпот любящего сердца...
Костер
Осеннее солнце уже слабо грело его голову с редко торчащими из-под шап-ки волосами. Холодные порывы ветра, налетавшие из-за облезших кустов, охлаждали разгоряченное лицо. Плечи были приподняты, руки глубоко засу-нуты в боковые карманы, старый шарф, цвета редкой заношенности, болтал-ся одним концом на спине, другим спереди.
Такая поза согревала, была удобна и он, усевшись на уголок двух соединен-ных скамеек, отдался неторопливому и бесшумному, как полет ночной совы, созерцанию своих давних переживаний и мыслей.
Долгое время он сильно страдал. Глубокое и прочное чувство овладело им сразу, как только он увидел её со спины, а затем, обогнав, рассмотрел лицо и глаза. Уже в первый тот весенний день, когда все коллеги по большому и ве-селому коллективу собрались после майских праздников опять вместе, он по-нял, что это его миг. К нему пришло то, что он наблюдал в других, что видел на экране и слушал от друзей. Острый интерес за три летних месяца не угас, а стал разрастаться в душе сначала легким пламенем лирической свечи, затем перерос в глубокое и постоянное жжение, а сейчас полыхал, как многоцвет-ный вечерний костер, вздымающий в черное бархатное небо мирриады иско-рок.
- Смысл моего существования, - подумал он, - свелся к нулю, так дальше нельзя. Сегодня нужно подойти и сказать о главном. От волнения защемило в груди, кровь прилила к вискам.
Он вздохнул, решительно бросил в песочницу свой зеленый совок, надел пришитые к рукавам варежки и направился прямиком к желтому корпусу, где весело орала детсадовская детвора.
Завтра ему исполнится 5 лет.
Начало
Как я себя помню?
Не расплескать бы и не уронить хрупкие воспоминания раннего детства. А было ли это? Когда? Где?
Наверно, в Белоруссии, в городе Лида, где, по словам родителей, 31 августа 1947 года началась моя жизнь!
Дом деревянный с маленькой верандой синего цвета, в торце зала два окна на улицу. Между ними черно-белый портрет И.В. Сталина в форме генера-лиссимуса, в фуражке и с трубкой в правой руке. Кадка с большим фикусом. Стол, заваленный книгами, тетрадями, какими-то неинтересными бумагами.
Во дворе коза Бася с очень твердым характером. Будучи маленьким, я поба-ивался её и через дырочку в заборе задабривал капустными листьями или хвостиками от пахучей морковки.
Папа трудился тогда в редакции и часто разьезжал по району в поисках ма-териалов для разных заметок и статей. Мама работала, как я узнал попозже, в особом месте - колонии для несовершеннолетних /да, были и такие в суровое послевоенное время!/. Домой они приходили вечером или вообще поздно, когда я уже спал. За мной и козой Басей ухаживала няня, молодая полька лет 17-18-ти. Её я почти не помню.Только осталось ощущение тепла и доброты, исходившими от неё и голос. Особый, с небольшой шепелявинкой и сильным польским акцентом.
По утрамбованной улице почти каждый день с песнями ходили солдаты из Северного военного городка, громко топая ногами, поднимая огромными керзовыми сапогами неимоверную пыль, что вызывало у детворы ажиотаж и приступы бурного веселья. Напротив, чуть наискосок, большой дом на дере-вянных сваях, где маленькие и по росту и по возрасту играли в свои немудре-ные игры. Тесно и страшно было между сваями. Какой-то особый, нереаль-ный мир – темнота, разрезаемая на полоски тонкими лучами света и в этих светлых пятнах появляются и быстро исчезают силуэты маленьких людей...
Видимо, уже тогда в моей душе поселился глубокий интерес ко всему таин-ственному, неизведанному. Предчуствия дальних дорог, нового в жизни, встреч и расставаний смутно, как на фотобумаге, проявлялись по мере взро-сления и знакомства с пестрой палитрой бытия.
Постоянный вопрос - а что же там, за поворотом? - относился уже не только
к малым географическим открытиям, но и к разным людям, их характерам и образу жизни, к новой ситуации, к черным и светлым полосам будущего.
Пока же мой стойкий интерес вызывал длинный, фигуристый, красно-кир-пичный забор, за которым, по рассказам старшей малышни, был особый, пу-гающий и поэтому притягательный мир - там жило своей отдельной, закры-той ото всех жизнью, старинное, заброшенное польское кладбище. Мир ду-хов, теней прошлого, забвения... Наша длинная улица также манила меня, особенно конец, скрывавшийся за школой. Я догадывался, что вся земля не заканчивается там и, если немножечко пройти дальше, то можно что-то уви- деть. Я так однажды и сделал.
Оторвавшись от няни, козы и родного дома, как щепка в половодье от
кромки льда, я пошагал, увеличивая скорость, к заветному повороту. Шел долго, хотя сейчас эти триста метров никого бы не утомили. Неожиданно увидел высокую земляную насыпь, по которой ехал черный, дымящий паро-воз с зелеными вагонами. Прямо под поездом, внизу в земле была огромная дыра. Я подождал, пока грохочущее чудовище исчезнет в клубах дыма и па-ра, и резво пошел прямо в отверстие. Пройдя сквозь туннель, я очутился в со-вершенно другом мире - березовая роща с беленькими, как карандаши, ство-лами, широкий, с новым запахом горьких ромашек, луг. А дорога вела меня дальше... Ещё бы несколько оборотов и..., но был остановлен заботливыми родителями, связан по рукам и ногам и доставлен слегка помятым шлепками опять в отчий дом.
Первая попытка открыть новое не удалась, но тяга к этому осталась, жаль,
что взрослые не разглядели её тогда !
Помню до сих пор - неописуемый восторг при виде клубящегося дымами, черного, тяжело дышащего паровоза, синеву бескрайнего неба над белоснеж-ными березами... и дорожная пыль, взбиваемая босыми мальчишескими ногами.
Это было начало!
Осень
Старая, покосившаяся калитка, заколоченные крест-накрест окна, дровя-ной сарай с просевшей до земли крышей тоскливо смотрели на меня сквозь мелкое сито осеннего дождя.
Я вошла во двор и подошла к соседскому забору, к тому месту, где мы встречались. Ещё цела была доска, висевшая на одном гвозде и служившая нам потайной дверью в иной мир. Подумав мгновение, я отодвинула её и шагнула...
...весело помахав мне рукой, мои молодые родители торопливо, почти впри-
прыжку побежали к железнодорожной станции, удаляясь от бабушкиного дома, где впервые они оставили меня на все лето.
Немного поплакав, я начала осматривать своё жизненное пространство. Большая комната с побеленным потолком. На двор и на улицу выходило по два окна. Слева кровать с высокими взбитыми подушками, над столом, на-крытом белой льняной скатертью, икона в золотистом окладе. Справа, возле печурки, в углу зеркало. Оно было старым, очень старым. Бабушка говорила, что её прабабушку очень полюбил какой-то наполеоновский офицер и оста-вил зеркало на память.Темно-коричневые, почти черные листья и виноград-ные грозди обрамляли с двух сторон толстое, цвета желтой меди, стекло и поддерживали в самом центре вверху овальный медальон с незнакомыми буквами «RF».
Я немного боялась этого зеркала. Мне казалось, что на меня изнутри, из глубины веков смотрят те, кто когда пришел на эту землю из далекой и нез-накомой Франции. От иконы к зеркалу, через комнату наискосок тянулась самотканая дорожка, собранная из тысяч разноцветных тряпочек. Она укра-шала комнату, как дорогой персидский ковер, дворец какого-нибудь шаха из восточной сказки. Утром, еще лежа в кровати, отыскивала глазами на дорож-ке редкие цвета и загадывала желания. Сегодня открыла окно и выглянула наружу. Синяя веранда, длинный узкий двор, поросший травой и одуванчика-ми, заканчивался воротами, слева от них рос могучая липа с толстой веткой поперек, а за ней, в углу густой куст душистой малины. Вот и всё. На первый день впечатлений хватит.
Вечером, пожелав бабушке Мальвине спокойной ночи, я нырнула под пу-ховое одеяло, но тут же, услышав звук грузовика, подскочила к окну. Люди сгружали ящики, чемоданы и коробки. Из привезенных вещей торчала голова с желтыми бантиками. Потом чемоданы и голова исчезли, а машина уехала.
- Жаль, что не родители, - засыпая, подумала я.
Утром, обмакивая толстый блин в яичницу, вспомнила о вчерашнем. После завтрака вышла во двор и стала слушать, что происходит в соседнем доме. Тихо. Подошла поближе к липе и вдруг заметила, что на меня сквозь щель в заборе смотрят два глаза. Я немного повертелась рядом, но первая на контакт не пошла. Глаза исчезли. Стало грустно. Найдя в заборе болтавшуюся доску, отодвинула её и положила на чужую территорию синюю фарфоровую чашеч-ку. Села на скамейку и стала ждать. За забором послышался шум и снова два глаза уставились на меня. Отбросив гордость, подошла к тому месту, но ни-кого не обнаружила. Глаза и чашечка исчезли, а на траве лежал маленький плюшевый медвежонок с надорванным ушком. Я с благодарностью приняла подарок и принялась раздумывать о незнакомке.
Два дня никаких глаз не видела, начала опять скучать ...и вот...
Из угла, за липой и малиной, раздался скрип отодвигаемой доски и в дырке появилась голова девочки моих лет с бантиком и платочком на шее. Я по-дошла к ней и сказала: "Спасибо за Мишку!" Голова с бантиками тихо про-мурлыкала: "Тебе тоже спасибо за красивую посудку. Я думала вы злые, де-душка наш говорил. Приходи тогда к нам в гости".
С тех пор каждым летом мы встречались. Сначала самодельные куклы за-меняли нам всё и вся, но постепенно интересы менялись, ежедневная болтов-ня на толстом суку покрывалась тайнами и секретами. Развилка старого де-рева стала называться штабом, а расщелины в коре покрылись десятками бу-мажных украшений и записками к симпатиям из числа местных мальчишек. Вверху, под покровом густой листвы, мы шёпотом делились сокровенным, давали клятву дружить вечно. Там же плакали перед днем отьезда.
Повзрослев, всматривались до головокружения в бездонное небо и искали среди тысяч мерцающих звезд свою. Вдыхали волнующий аромат летней но-чи, на крыльях девичьих грёз парили над родной сторонкой. Липа слушала и тоже вздыхала. Она давно питала глубокую симпатию к стройному тополю, самому близкому к ней из небольшой рощицы.
Шли годы. Выросли мы, стали старше и мудрее разговоры, взгляды на жизнь уже не сходились, иногда возникали напряжения и паузы. Забор и раз-весистая липа уже не интересовали нас. Семьи, дети, быт, отодвигали за го-ризонт старый покосившийся дом, зелёную деревеньку и образы родных.
Но многое ещё теплилось в глубине души, слух пока различал ушедшие голоса, щемящие картины прошлого всё чаще и чаще возникали передо мной и я решилась...
...за забором был уже другой пейзаж - дом подруги исчез тополиная ро-щица была распахана, высокий бурьян закрывал остатки фундамента. На месте качелей из-под земли торчало кривое, ржавое железо.
Я подошла поближе.
Среди пожухлой, мокрой травы лежала до боли знакомая синяя фарфо-ровая чашечка.
В тот же вечер я позвонила ей.
Падает снег
Безумно интересно наблюдать картину падающего снега. Взгляд сначала
на общий, белый хаос, мятущийся в вечном движении. Душа наполняется покоем и мягкой грустью. Рождаются мысли - кто и как запустил этот "perpetuum mobile", откуда такая легкость, почему их столько?
Мирриады белых бестелесых существ, появившихся ниоткуда и спешащих в никуда! Глаза постепенно различают отдельные, то ли более крупные, то ли необычной формы снежинки, прокладывающие свой путь в белесом молоке. Затем замечаешь, что это не совсем беспорядок, а наоборот, как и среди лю-дей - движение. Словно души миллионов предков, давно стертых с лица зем-ли и из памяти живущих, стремятся совершить ещё один полет, пройти ещё отрезок и времени и пространства и, наконец, обрести покой и уединение в общей холодной массе. Как и люди, эти невесомые небесные пылинки летят по своему сложному, кривому, петляющему пути, почти не сталкиваясь друг с другом, огибая острые препятствия, иногда проваливаясь вниз, и лишь из-редка, посмеиваясь над другими, взмыва-ют на миг вверх.
Среди тысяч и тысяч подобных себе отдельные, наверно, необычные звез-дочки, летят вверх, вопреки падающему потоку и подолгу замысловато тан-цуют, избегая движущееся сито, как будто своим пчелиным танцем хотят по-ведать о чем-то важном, что было в их жизни. Таких мало, очень мало и они не нарушают общей модели движения, да и сами затем, сбитые прямолиней-но движущимися соперниками, исчезают за усиливающейся завесой.
Наконец выяснилось и направление - сверху, из полета, вниз к земле, к себе подобным, ловко устроившимся на пуховой, толстеющей перине. Всё, как и везде, всё, как и всегда! А, может, наоборот – у нас, как у них? Так кто же первый? Кто же в начале?
Может рассказать о ком-то из них? Не будет ли это движением вспять, бес-плодной попыткой остановить время? А, может, это благодарность за сопри-косновение, за давние встречи, за разговор, за крепкое мужское рукопожатие, за честность и чистоту, за то, что понять нельзя, но что остается в тебе и зас-тавляет сильнее биться твое сердце даже сейчас, когда уже столько пройдено и уже различим горизонт...
Память
Она была красива. Формами и сохранившимися линиями стройной до сих пор фигуры ещё обращала на себя внимание людей, правда уже немолодого возраста. Она не могла пожаловаться на пресную жизнь. Почти всегда судьба была к ней благосклонна. Её тело хорошо помнило ласковые руки первых мужчин, которые, образно говоря, создали её и обучили большому искусству любви ко всем, кто приходил к ней или нуждался в её помощи. Огненные со-прикосновения с молодыми людьми, число которых уже тогда трудно подда-валось подсчету, до сих пор будоражили её воображение и придавали стой-кость стареющему организму.
Были и пики острейших ощущений, когда она чувствовала сразу двоих, или, как тогда, на природе, когда она смогла по очереди осчастливить пяте-рых молодых людей. В ту ночь она кричала от радости и долго содрогалась от любовных спазм.
Да, ещё и этот случай...
Вдруг резкая водочная вонь, смешаная с прогорклым табачным запахом вернули её к действительности. На её ещё крепкое тело навалилась деревян-ная тяжесть и пропитый голос рявкнул:
- Стой, падла казенная. Мне пилить надо.
Старая армейская табуретка вздохнула и покорно подставила свою спину под сапог пьяного старшины.
- Хорошо, ещё нужна мужчинам!
Песня матери
Изредка, пугающе громко, раздавались сильные выстрелы, отражавшиеся звоном посуды, стоявшей в старом самодельном буфете. Дребезжали нес-колько мгновений и стекла. Крепкая зима!
Схваченный обьятиями 35 градусного мороза, добротно сколоченный крес-тьянский дом, сопротивлялся, покряхтывал, освобождаясь от ледяных цепей. Новые, смолистые с желтизной мощные бревна покрылись морщинами пока немногочисленных трещин и эта борьба продлится ещё долго, очень долго, жаль только, что победитель уже известен...
Колеблющееся пламя русской печи, стоявшей справа от входа, в отдельные моменты успевало выхватить из темноты деревянную колыбель с веревками, уходившими вверх в темноту, большой струганый стол, посредине под льня-ной салфеткой круглый крестьянский хлеб и две тарелки с ложками /в то вре-мя вилки были только у богатых/.
В хате никого не было, но кто-то отсутствовал недолго – колыбель ещё чуть покачивалась. Сквозь потрескивание еловых поленьев слышалось ровное со-пение. Творение любви человеческой спало.
Согнутая под тяжестью большой вязанки дров, в хату вошла мать. Русые во-лосы выбились из-под платка, прилипли к мокрому лбу. Она осторожно поле-но за поленом положила дрова за печь, но не все вышло гладко - от стука проснулся малыш, но не заплакал, задвигался, открыл глаза.
Она подошла, наклонилась, улыбка расцветила её красивое лицо. Сбросив платок и кожух, взяла сына на руки, села под образа и начала кормить гру-дью. Никогда и никто ещё не создал полного описания этой библейской кар-тины - кормящая мать!!!
Густые, темно-русые волосы лежали на плечах, шелковым водопадом ска-тываясь на спину, где были перехвачены зеленой тесемкой.
Легкий наклон головы говорил о любви и нежности к этому пыхтящему ко-мочку. Кончики бровей, чуть загнутые книзу, большие серые глаза, прямой, тонкий нос с небольшой горбинкой, бледная кожа, благостное выражение лица делали её схожей с молодой женщиной, изображенной на иконе и окруженной золотистым окладом.
Волосы только у той были неестественно черные, да и находилась она вы-соко над всеми, там, где не властвует Время.
Красивая шея переходила в округлые полные плечи и нежнейшую грудь, достойных кисти Великих Мастеров. Сын ужинал, впитывая в себя материн-скую Любовь и всё лучшее, чем обладала эта совершенная женщина. Такой красивой и должен был бы запомнить он свою счастливую маму...
Но то ли Судьба, то ли Перст прервали этот священный союз.
До родов, радостный отец выехал на своей лошади на далекие заработки – зимний вывоз леса. Далеко...очень далеко он был...и не успел, приехал только на похороны любимой жены, отдавшей ему своего последнего пятого ребенка.
Подорвавшись и простыв на тяжелой крестьянской работе, она слегла и так-же тихо, как жила, ушла из этого мира, сжимая в одной руке подаренную лю-бимым мужем заколку, в другой - теплую ладошку крошечного сына – свой последний подарок мужу.
Вот так явился на свет мой отец - из Света рождения в Мрак главной потери!
На вопрос о матери, уже девяностолетний, говорит:
- Ничего не помню, но очень красивая была. Ощущение этого осталось... Теплоту её тела, рук... Как первый хлеб, как первую весну...Святая была, ви-дидимо. Ношу её в сердце до конца.
После паузы загадочно:
- Там видно будет...
Родственник
Искреннее веселье и радость царили в этом крепком доме с красной чере-пичной крышей. В конце лета туда сьезжались дети, внуки и правнуки нео-бычно красивой пары - высокого старика с прической „под ёжик" с длинны-ми жилистыми руками бывшего кузнеца и юркой, как пчелка, горбоносой крестьянки, сохранившей до глубоких лет благородную осанку, следы былой красоты и память о своих предках - столбовых дворянах из рода Стома-Мер-жинских. Их любовь произвела на свет шестерых дочерей и сына. Со време-нем они разьехалась кто куда, обзавелись семьями, хлопотами и проблемами городского житья. Тем не менее, не забывали родного гнезда и тех, кто жил и трудился там.
Так было и тогда. Осенью приехали почти все. Старшая дочь сразу распре-делила трудовую повинность - кому сена подкосить и привезти, кому убрать навоз из сарая и выстелить хлев соломой, женщины занялись уборкой и ого-родом. За неделю чертовски устали. Отвыкли от такого труда, а отец их толь-ко улыбался, наблюдая столичных зятьёв, неумело стоговавших сено. После трудов, по установившейся давно семейной традиции, старики устраивали большой стол. Каждый из желанных гостей, хряпнув рюмочку крепчайшей самогонки, делился своими заботами, успехами и семейными новостями. Главенствовали те, кто жил в городах побольше, поэтому Светлана, старшая из семьи, с ярко заметным питерским говором, открывала застолье. Имея сильный, волевой характер, она прошла длинную школу жизни, хотя по учи-тельской профессии работала мало, так как муж, родом из этих же лесных мест, быстро выдвинулся по военной службе и занял после войны солидный пост в штабе Ленинградского округа. У них было двое детей и, как повелось у обеспеченных, сын уже второй срок нехотя тянул учебу в престижном Мос-ковском военном училище Высшего командного состава, а дочь имела ред-чайшую во все времена профессию - старший радиоофицер на пассажирском океанском лайнере "Советская Правда" Ленинградского морского пароход-ства. Если поведение другой родни по тому времени можно было бы назвать стандартно-советским, то "питерцы" судили о многом по-своему, часто под-черкивая, что их город был и остается своевольным и независимым, несмотря на колючие рамки тридцатых, а жители – вольнодумцами - декабристами.
Далее по рангу шла семья Галины. Она домохозяйка, муж также военный,
политкомиссар 2-го ранга в какой-то секретной армии в Киеве, а вконец раз-балованные детки - дочь будущая несостоявшаяся художница, а сын такой же вечно будущий скрипач, оставались с родителями мужа в солнечном Крыму и не представляли себе иных, кроме курортных, условий. Говорунами их наз-вать было нельзя. Галина время от времени напускала на себя вид салонной дамы, поправляла жабо, и этим успешно конкурировала с „высотой“ старшей сестры. Средняя, Зоя, была замужем за авиатехником и, так как хвастаться было абсолютно нечем, просила называть себя Жозефиной, а мужа Юру - Юргеном. Проживали они с двумя малыми дочками в Рязани, вкалывали, в отличие от старших сестер, оба, скапливая деньги на постройку дома, обяза-тельно с отдельной столовой, как у Светланы и Галины. Юра или Юрген был неисправимым анекдотистом и не было еще ситуации или застолья, когда бы он не травил очередной, часто остро-соленый анекдот, или ляпал омерзитель-ные вольности. Сам закатывался первым и смеялся так заразительно, накло-няясь почти под стол, с хрипотцой и присвистываниями, легким заиканием и натуральными слезами. Этим он вызывал, хотели они того или нет, у более высокопоставленного родства, сначала улыбку, потом легкое номенклатур-ное покряхтывание, затем стеснительный смешок, независимое подпрыгива-ние наетого живота... и вот уже из широко открытых ртов вместе со спирт-ным вырывался на волю не смех, а гоготание, клекот, присвистывание, даже мычание...
Длился этот родственный апофеоз довольно долго и прерывался командир-
ским голосом старшей дочери:
- Хватит ржать, за родителей!
После этих желанных слов всхлипы прекращались и только булькающий звук минуту царил над столом.
Муж следующей дочери - Веры, преподаватель советской истории по обра-зованию, трудно работавший в небольшом горкоме партии, внимательнее других слушал, удачно поддакивал, но смеяться начинал последним или во-обще не смеялся, когда тема казалась ему скользкой. Себе он только подли-вал по капле, а другим, гостеприимно не жалея напитков тестя, лил, как из ведра. Иногда, из-под бровей, быстренько оглядев сидящих, потягивал ком-пот из стакана своей жены. Вера же, желая не отстать от столичных, также встревала в разговоры об искусстве и операх, перебивая неожиданными те-мами о вреде преждевременных абортов и методах контрацепции. Будучи самой красивой женщиной в округе, не то что за этим столом, она, тем не менее, вкалывала простым бухгалтером в холодной пристройке районной больницы, тихо ненавидя свою работу и толстенького хамовитого мужа-пройдоху. По ночам мечтала о чем-то своем, светлом и радостном, часто вставала с заплаканными глазами, видя непреодолимую разницу между грё-зами и бытом. То ей являлся симпатичный и темпераментный первый секре-тарь, то директор кинотеатра, главный фельдшер, но все они блекли утром, когда, выправив своих из дома, она садилась к зеркалу и всматривалась в пре-красное лицо. Да, к такому лицу подходил только он, стреляющий герой из американского вестерна. Жаль, ни фамилии, ни имени она не запомнила.
- Куда вам до него, недомерки! Вот это первый по всем статьям! Я бы и не задумывалась! - с вызовом и гордостью за себя думала она, глядя на подвы-
пивших и ни в чем не виноватых мужчин.
Завистливая Линда/в детсаду просто Лида/ сидела рядом с своим постоянно жевавшим мужем и внимательно следила за поведением сестер и их половин - как сидят, как едят, когда и чем вы вытирают губы и носы, как незаметно для других почесывают засвербевшие места. Муж, прекрасный столяр-крас-нодеревщик по профессии, согласительно кивал на назойливые просьбы вы-соких родственников смастерить для них /ааа, мол, пустяк!/ бесплатно, то ли вычурный комод под Людовика, то ли полки для красивых витринных книг. У них должны были появиться дети и это положение постоянно раздражало Линду - ни поесть всласть, ни попить и, то ли от жалости к себе, или антипа-тии к никогда не беременеющему мужу она периодически лягала его ногой, когда тот пытался скрытно от других засунуть в рот еще один кусок вкусной крестьянской колбасы.
Самым незаметным был сын, младший из всех детей. Он сидел на краю сто-ла и, выжатый на периферию более активными родственниками, редко всту-пал в разговор. С любовью смотрел на своих состарившихся родителей, тер-пеливо слушал соревновательный треп хороших и трудолюбивых, по сути, людей и, как человек, видевший и переживший практически всё в этой жиз-ни, молча кивал, иногда говорил какие-то незначащие слова и думал, вспоминал... От рождения, склонный к размышлениям, анализу, он понимал, что именно здесь, в отчем доме, в своем старом гнезде они свободны и хоть на малое время спрятаны от давившего всех и вся страха, палочной дисцип-лины, и вездесущих государевых ушей. Родители, его любимые труженики, потешно вертели во все стороны седыми головами, пытаясь одновременно расслышать и понять всех.
- Хорошо, что все вместе, а отец и мать пока способны самостоятельно жить и трудиться. Ведь никто не вечен, особенно в это тяжелое время, и не так уж далек скорбный час последнего большого семейного стола.
Две старших дочери, раскрасневшись от домашнего питья, поочередно под-дакивали своим высокооплачиваемым мужьям, неторопливо, со знанием де-ла, добавляли свои коментарии, краски, внося скромный вклад в общее дело.
Муж последней младшей дочери Евгении ещё не приехал, опаздывал и его отсутствие не сказывалось на атмосфере встречи. Странно только было, что имя его ни разу не вспомнили, как и семью красивой Евгении - балерины сто-личного театра. Каждый говорил о своем - трудностях и хорошем, детях и се-мейных заботах. Не забывали сказать доброе слово и о родительском столе.
А откушать было что!
Ещё подпрыгивавшие на двух сковородках кружки пикантно-ароматной крестьянской колбасы были окружены тремя глубокими мисками. В одной - темно-лакированные шляпки боровиков, в другой - дерзко торчащие из белой сметаны рыжики, в третьей - вставленные вперемежку с чесночными перьями и листьями хрена, огурцы. Мраморного узора сельтисон и притягательные пластины прокопченной можжевельником ветчины широкими лаптями до-жидались своего хозяина и жгучего соприкосновения с огненной горчицей. До корочки поджаренные ребрышки, по две штуки на каждого, удивленные желтые глаза многоликой глазуньи, а возле неё башни толстых ноздреватых блинов, накрытых самотканой льняной салфеткой.
Над всем этим царил сложный букет деревенского шанеля – соленых груз-дей, кислой капусты с красными брызгами клюквы, моченых яблок и липо-вого меда в сотах, лежащих враскидку щедрых снопиков зеленого лука и ук-ропа. Салат из крупно нарезанных узловатых помидоров, пупырчатых огур-цов, сдобренных порцией пахучего украинского масла, добавлял яркие тона родительскому натюрморту. В центре на одной тарелке парила бульба, а на второй возвышался их хлеб.
Хмель крепкого деревенского самогона, настоеного на чесноке и зверобое растопил официоз и соревновательность разделенных расстоянием и соци-альными ступеньками родственников. Теперь все уже видели любимые лица друг друга и смотрели не на уши, а в глаза. Чья-та ладонь легла на плечо си-дящего рядом и, начатая тоненьким голосом мамы песня детства, набирала силу. Теплый осенний вечер наполнялся любовью и состраданием к умирав-шему в степи матросу. Голоса шли из души, от сердца. На глазах появились слезы. Не таясь и не соблюдая навязанных правил, их вытирали и старшие и младшие... Родители молча глядели на детей и не узнавали их...
Средняя дочь тихо сказала:
- Вот и мой!
Все разом замолкли, услышав хлопанье автомобильной дверки и насторожен-но уставились в дверь. Кто-то успел шепнуть:
- Ничего лишнего!
В комнате внезапно, словно из-под печки, появился хмурый, выбритый до синевы мужчина средних лет, с четким, как порез бритвы, пробором в блес-тящих, черных волосах.
Маленькие коричневые глазки на скуластом монгольском лице немигающе уставились на сидевших. Взгляд был неподвижен и тяжел. Вертлявый, как пропеллер, авиатехник спрятался за спину жены. У всех появилось непрео-долимое желание встать, но гладко отутюженный темно-серый костюм про-шел к столу, занял оказавшееся почему-то свободным место справа от роди-телей. Отработанный жест маленькой руки и скрипучий, очень тихий голос запустили опять в движение рюмки и тосты, но нечто пропало и что-то дру-гое появилось над семейным общим столом.
Ещё день родственники, ночевавшие где попало, кто на сеновале, кто в ша-лаше в саду, кто в бане, с опаской обходили двор своего родного дома, где утром на кухне брился, а потом пил привезенный им для себя кофе черный человек в сером костюме. Ему торопливо и униженно прислуживали старики и жена. Целый день в доме был только он.
Вечером ко двору подьехала огромная горбатая, тоже черная машина, из которой выпрыгнул широкоплечий человек с пистолетом на боку и, не здо-роваясь, прошел в дом.
На крыльцо потом вышел тот и жестко глядя перед собой, сказал в никуда: - Отдыхайте пока здесь, - и скрипуче добавил, - Родственники все же.
В следующее лето 1939 года все зятья и две старших дочери были спешно расстреляны по месту последнего жительства на земле, каждый на окраине своего же города. Пропали и их дети. Много лет спустя, сыну, ректору веду-щего в стране Университета после его настоятельных многолетних требова-ний выдали на полчаса без права выноса и копирования дело всей семьи. В серой тощей обложке были подшиты белыми нитками девять листков – пер-вый - опись страниц, второй обвинение на двух листах /родители - резиденты польской разведки - "двуйки", а военные зятья, заодно и попавший за компа-нию историк, члены вражеской резидентуры. Все они по заданию империа-
листических разведок проникли в командный состав Советской Армии для выведываний военных тайн. Далее наблюдательный глаз ученого отметил ин-тересную деталь. Место соединения третьего и последующего листов было белым, тогда как другие листы пожухли от времени и лживой информации. Четвертый и пятый листы отсутствовали, хотя в описи значилось –
"Меморандум из сообщений сек.с-та "Учитель" от 28-30 сентября 1938г., сов.секретно".
Далее шёл замысловатый с точки зрения юриспруденции документ - "Справка на двух листах по материалам допросов агентов империалистичес-ких разведок“ и фамилии. Много фамилий, очень много, по большей части неизвестных, даже нерусские были.
Вопросы:
- Кто руководил вражеской резидентурой?
- Как, кто и каким образом завербовал вас для подрывной, шпионской работы в Советской Армии?
- Почему вы скрывали наличие родственников в буржуазной враждебной Советской стране Польше?
- Какие задания вы получали здесь от Гальдера и какие Гальдер получал за-дания от Стомбровского?
И так далее. Кошмар варфаломеевской ночи – детская сказка по сравнению с кровавой гильотиной вооруженного отряда партии большевиков.
Ни один мало-мальский здравый ум не сможет понять этого! Тем более, этого нельзя простить!
Интересно то, что ни о вызове, ни о допросах родителей, не было и намека! То ли забыли их в кровавом соревновании, то ли пригодилась только девичья фамилия бабушки. Поляки, значит, враги! А какие-то Гальдеры и Стомбров-ские были пристегнуты дополнительно. Раз под пытками дают показания, значит и на этих дадут! Вот и вся логика палаческой машины!
В конце были подшиты два маленьких документика.
Обвинение - "...доказательно разоблачены мероприятиями по делу, прове-денными младшим уполномоченным ... района, младшим сержантом Сири-ком В .П., во враждебной деятельности против СССР, Красной Армии и Со-ветского народа. Имели целью заговор среди командного состава армии, дальнейшую подготовку террора против И.В. Сталина и всего советского правительства. Как враждебная СССР организация, члены её приговаривают-ся к расстрелу... „
И фамилии, до боли знакомые и другие незнакомые имена. Много, очень много, то ли 42, то ли 43... Женщины пошли под вышку, как "ЧСР" - члены семьи расстрелянного..."
Шел 39-ой год...
Родители и оставшиеся родственники выжили, серп кровавого Молоха не коснулся их.
Никто не залетал в осиротевшее гнездо.
На деревенском столе долго, до конца шестидесятых стояла фотография маленького черного человека с цепким взглядом восточных глаз.
Еще оставались дети и внуки...
Рыба
Друг мой, Колька, жил через два дома от нас, на противоположной стороне. Вдоль их забора тянулась длинная канава с проточной водой - гордость Коль-ки и зависть всех десятилетних обитателей улицы.
Отец его работал главврачом в психбольнице и нравом мало отличался от своей клиентуры. Любил заложить за воротник и в подпитом состоянии вы-ражался так витиевато, что женщины густо краснели, ну а мы пока слабо раз-бирались в цветастых словечках. Мать моего друга была тоже медиком, но в роддоме и интерес к её работе у нас не пока не проявлялся.
Колька был более самостоятельным, чем я. Он рано вставал, готовил себе и живности в сарае легкий завтрак, отчего поросята и еще кто-то ревели белу-гой /мы с детства знали как она ревет!/, затем рубил дрова, складывал их, подметал двор, таскал воду, поливал огород, а в промежутках кое-как делал уроки и успевал дать пинка противной и болтливой сестренке.
Отец Кольки иногда пользовал своих задумчивых клиентов в качестве тяг- ловой силы - посадить или вспахать картошку, перенести и сложить торф и отплачивал отдельным из них увольнительной домой.
Никто, никогда и не думал нарушать договоренностей, так как рука у глав-ного врача была очень тяжелой, а „Бонапарты“, “Чайники” и „внебрачные де-ти Ульянова-Ленина“ больше одного удара не выдерживали.
Однажды двое из них – „Робеспьер“ и „Мамин-Сибиряк“ приволокли на те-леге бочку полуживого, но свежего карпа и оставили во дворе. Отец Кольки одобрил это дело и отпустил их с бутылкой водки ещё на день. Сам перед уходом на работу приказал нам сменить воду в бочке на свежую, чтоб рыба не задохлась и добавил ещё на своём языке что-то о наших родственниках по женской линии.
С полчаса мы любовались карпами, а потом замордованный домашней ра-ботой Колька предложил:
- Давай менять воду в бочке не будем, а выпустим карпа в нашу канаву. Там прохладно и места всем хватит. Канаву перекроем, а родители придут и очень рады будут потом. По рыбке, по рыбке - месяц жить можно, - деловито пробасил мой предприимчивый сосед.
Тут же за дело! Канаву перекрыли старым, так придумал Колька, отцовским пиджаком, растянув его между двух кольев, а полы присыпав липкой землей. Водная артерия сразу же набухла и, спустя полчаса, вода серебряной полос-кой начала переливаться через плотину.
Зеркальные, с добрую лопату, карпы весело плескались в золотистой глуби-не, не догадываясь о будущей печальной судьбе юного хозяина.
Проделанная работа вызвала дикий восторг у всех зрителей, скопившихся на трибунах самодельного дельфинария. К вечеру усталые, но довольные все разошлись, а Колька полез считать карпов.
Пройдя раз десять полноводную канаву вдоль и поперек, он не нашёл там ни одной рыбы!
Карпы испарились!
Мы слышали о тайфунах, переносящих далеко вкусную, даже жареную ры-бу, но чтобы так нагло, в тихий летний вечер и всю сразу?
У Коли от рождения было длинное лицо, претендовавшее, по мнению его мамы, на интеллигентность, теперь же оно сделалось плоским, круглым и желтым, как у китайца, ожидающего казни бамбуковыми палками.
Он приоткрыл калитку и осторожно выглянул на улицу.
Со стороны психбольницы в сопровождении радостной малышни, предвку-шавшей очередной гугенотский вечер, с тяжелым топотом приближались его родители!
Сборщики лома
Ах, что это было за славное поколение! Вы чуть знаете об этом? Нет, слабо Вы знаете! Это были очень всем милые люди, не то, что теперь!
Они постоянно находились в поиске, даже если их об этом и не просили
сверху. Ну, понимаете, не настаивали, что-ли? Вся страна любовалась их це-ленаправленным движением.
Нет, никакой суеты не было!
Мы, сгибаясь до земли, прочесывали пустыри, дворы, улицы, свалки, дома, чердаки и кладовки!
Они, также потея от соревновательного усердия, скрупулёзно прочесывали деревни и поля, училища и заводы, институты и академии, поселки, города...
Мы вместе, как настойчиво обьясняли всем из двух газет, делали добро для народа, подталкивая социалистический локомотив в стремительном падении в светлое будущее.
Мы привлекали в наше движение науку, меняя сообразно декретам цели, количество и цвет.
Они также планировали своё вдохновение, не зацикливаясь долго ни на окраске, ни на цифрах, ни на одном месте.
Мы не брезговали промышленными отбросами.
Они также активно использовали человеческий мусор, но в очень больших количествах.
Это негласное соревнование продолжалось до той поры, пока экономика огромной страны не стала похожа на рваный носок с немытой ноги проле-тариата, который по выбывающей очереди пытались заштопать члены на-шего Политбюро, а Общество, бежавшее по кругу сомкнутыми рядами - глупый татарин с умным евреем, трудоголик генацвале с голым латышем, чистый казахский немец с московским чукчей, стало разбегаться, как по нужде - кто за кордон, кто в свой банк за деньгами, кто с деньгами на офшор-ные острова...
Разбежались и мы - стали не нужны. Анархия и Манкурство захватили нас
по одиночке! Попробовали распустить и их - не получилось!
Мы собирали цветной металлолом и имели копейки на мороженое.
Они забирали человеческие жизни, получая квартиры и награды.
У нас больше бросового материала нет.
А у них? Как Вы думаете?
Хапун
Дети как дети. Игры как игры. Однако в то время были и другие, очень взрослые игры, но кровавые. До сих пор помню одну из них.
Часто к нам на улицу приезжали новые люди с семьями взамен тех, кто вне-запно уезжал. Так нам, малым, казалось. Говорили "хапун" забрал. Это слово врезалось мне в голову и представлялось каким-то страшным, но пока неиз-вестным чудовищем. Мы видели лешего, Колька - Домового, ещё кто-то мельком Бабая, но какой из себя Хапун никто из нас не знал.
Только плач страшной стеной стоял после тайного визита всемогущего чу-довища, расправлявшегося с одинаковой легкостью и с женщинами и со здо-ровенными мужчинами! Не брезговал он и детьми.
Кто ещё хочет, чтобы он пришел? Видели Вы глаза оставшихся? У сила-
чей он вызывал старческую немощность, у бывших смельчаков-воинов –дет-скую беззащитность. Никто в огромной стране не смел противостоять ему!
Один раз я спросил у отца, а почему люди не убегут от хапуна или всей ули-цей не пойдут на бой с ним и победят его, как в сказке про Змея-Горыныча?
Тогда я не знал, почему одним этим вопросом поставил отца, маму и себя в тяжелейшее положение.
Дело в том, что отец был не один и, когда я вошел в зал, он ровненько си-дел на табуретке посредине комнаты, а на нашем старом диване, развалив-шись, полулежал и густо курил маленький человек с лысым черепом. Он был в военной форме, но без погон.
Мой вопрос повис в воздухе. Громко с надтреснутым звяканьем тикал на старом комоде будильник.Такой бездонной паузы я не слышал более никог-да. Таким я видел отца впервые. Обычно гостеприимный, общительный, ве-селый, скорый на шутку сейчас он выглядел совершенно другим. Он не был похож на себя - посеревшее неподвижное лицо, огромные вытаращенные гла-за, устремленные в никуда, и руки, руки, ладонями вниз, вцепившиеся ногтя-ми в колени.
- Ну, ... сынок, - только и смог выдавить он осипшим голосом.
Я, шестилетний мгновенно понял - передо мной Хапун и он похитит сей-час моего папу навеки. Я больше никогда не увижу его и не буду запускать с ним самолетики из бумаги. Так было у многих мальчишек на улице. Как ро-дилась во мне, откуда пришла, кто послал мне эту спасительную фразу?
И уже со слезами на глазах выкрикнул: "Это я не от моего любимого папы слышал, это на чужой улице от чужих детей! Не папа это мне..."
- Сметливый малый. Видно, что учительский сынок, - прошипел тонкий рот Хапуна, обнажив редкие черные зубы, и грозно добавил, - расти, расти, стри- галь, хорошим первичным материалом для нас будешь. Скоро ведь! Ну, жи-вите пока , - донеслось уже из-за двери.
Мы остались одни в оглушительной, звенящей тишине. Выключили свет, сели вместе напротив окна и, молча уставившись в февральскую темень, ста-ли ждать нашу маму. Каждый думал о своем.
Взрослый по-взрослому - остался жить, увижу жену и сына, завтра опять в школу, буду учить, но как и чему???
Маленький человек по-детски - я знаю теперь кто он, расскажу всем. Я спас папу и маму. Я никогда ему этого не прощу.
Мы ничего не сказали нашей любимой маме. Кушали в этот вечер особенно вкусно и долго - вареную картошку в мундирах с жирной синеспинной селед-кой. Запивали терпкой простоквашей.
Все смотрели друг на друга и насмотреться не могли. Говорить не говори-ли. У папы и у меня отнялась речь.
На сладкое я получил уже высохший, но такой вкусный белый зефир. Засы-пая, услышал из взрослой спальни:
- Спас ведь он нас всех. Маленький, а уже смелость и ум..., - тихонько сказал отец.
- Давай сделаем ему наш общий подарок, но такой, чтобы на всю жизнь,- предложила мать.
- Я отдам ему свою любимую вилку, ведь она от деда твоего, значит, от обоих подарок - от старых старшим, от старших младшим, - подытожил он. - Придумал хорошо, любит он ей после тебя кушать. Мы теперь всегда вмес-те, - мать поцеловала отца и все погрузились в сон.
Это было в феврале 1953 года. С тех пор я постоянно вожу с собой эту старую солдатскую вилку-нержавейку с надписью "rostfrei", а боль в сердце.
Могло ли быть иначе???
Проза
Модераторы: The Warrior, mmai, Volkonskaya
1 сообщение
• Страница 1 из 1
1 сообщение
• Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Baidu [Spider], Bing [Bot]