Уважаемые форумчане! Жанр своего "творения" определить не берусь, слишком смешанное оно получилось, отчасти потому, что автор на тот момент пребывал в состоянии легкой депрессии (сейчас уже нет).
Кроме того, написано это было на форуме фанатов фильма "Пираты Карибского моря", где меня очень тепло приняли и поддержали, но специфика форума наложила сильный отпечаток на содержание

Чтобы разобраться в этой каше, советую учесть: здесь три сюжетные линии :
1. Тюрьма.
2. Прошлое героя.
3. Фанфикшн по "ПКМ".
Если все вышеперечисленное вас не пугает - вперед.
Комментить можно в теме.
Автор желает вам приятного прочтения.
----------------------------
ПОСИДИ И ПОДУМАЙ
Посвящается моим родителям.
Глава первая. Мои нынешние обстоятельства.
Утро. Легкий ветерок проник в окно, пошевелил волосы. Сейчас, в пять часов, это еще приятно.
Потом будет жара.
Промокшая спина быстро высыхает, и снова, и снова. Волосы стали жесткими. Запаха собственного пота я давно уже не чувствую. Привык. Человек ко всему привыкает.
Восемь шагов в ширину, двадцать в длину. Окно под потолком. Четыре грязно-белые каменные стены. С каждой я сегодня уже поговорил. Больше пока не с кем.
Начинается новый день.
.........
Для чего, собственно, человека сажают в тюрьму? Не за что, а именно для чего?
Для того же, видимо, что и в детстве, когда отец сажал на скамью в углу внутреннего дворика и не велел вставать, пока не разрешат.
"Посиди и подумай".
Подумать мне есть о чем. В принципе, нет такого человека, которого бы не за что было посадить подумать.
Все мы что-то успели натворить на этом свете. Как там в "Гамлете" ?
"- С ними обойдутся по их заслугам, принц.
- Нет, лучше, чтоб вас черт подрал, любезнейший! Если с каждым обходиться по заслугам, кто избежит кнута? Обращайтесь с ними лучше, чем они того заслуживают."
Обожаю это место. Высшее достижение человеческой мысли. Я и сам всегда старался никого ни в чем не обвинять, по крайней мере в глаза, хотя за этим прячется обыкновенная трусость: сам боюсь того же. Вот как все просто, оказывается, и милосердие тут ни при чем.
Визг решетчатой железной двери. Входит Деметриос, как всегда мрачный и молчаливый. Сует мне миску с едой, кружку воды. Ждет, когда я все это уничтожу (впрочем, долго ждать ему не приходится). Так и не сказав ни слова, забирает посуду и выходит. Визг двери.
Пообщались...
О нем как-нибудь позже. Он - самый добрый и деликатный человек, волей судьбы заброшенный сюда. Не исключая меня самого. Тут отдельный разговор. Не упустить бы главную мысль.
Фрида Кало. Женщина, при мысли о судьбе которой мне, мужчине, становится стыдно. Заключенная в тюрьму собственного покалеченного тела, годами неподвижная и беспомощная, она умудрялась жить. Да не кое-как, а на полную катушку. Писать картины. Крутить романы. Путешествовать. Даже прославиться ей удалось еще при жизни.
Что она изображала на картинах? Свою жизнь. Переломанное тело. Инвалидное кресло. Умершего еще в ее чреве ребенка. Кто способен на такую отвагу?
Надо попытаться. Рисовать я не умею. И красок у меня нет. Все, что сейчас есть в моем распоряжении - это слова.
Глава вторая. Детство и юность.
Что значит быть младшим ребенком в большой любящей семье?
Гарантия уверенного эгоизма. Ибо все говорит в твою пользу. Не с кем сравнивать.
Помню перебранки отца, матери, бабок из-за меня, обвинения друг другу, что неправильно накормили, недостаточно рано уложили, и много еще чего... Вдобавок в детстве я часто болел, что еще увеличивало мою ценность в глазах родителей.
Но все имеет обратную сторону. Нечестно обвинять родителей за то, чего они от меня ждали - после такой отдачи, забот, бессонных ночей. Ведь их самих растили еще жестче. Им-то в детстве прямо говорилось, что на них трудятся, кормят, одевают, а они не ценят этого и думают только о себе. Я-то хоть знал, что имею право на обиду, на слезы, на попытку отстаивать свою правоту. Они же росли с сознанием, что все это - преступно. А уж бабки и дед... О чем говорить.
Хорошо все же, что времена меняются.
За это говорит хотя бы то, что за всю мою предыдущую жизнь, если не считать последних полутора лет, меня никто никогда пальцем не тронул! Вы можете в это поверить? Дед, покачивая головой, ворчал, что меня портят, ссылался на Писание, вспоминал отцу его собственное детство... Отец отвечал : "Вот именно поэтому". А учился я всегда хорошо - и в начальном, и в высшем училище - меня просто не за что было наказывать.
Я забыл сказать, что на дворе у нас 16.... лето Господне, семья моя раньше проживала в Испании, в пригороде Кордовы, откуда была вынуждена бежать, спасая свою жизнь, когда мне было четыре года. Мы - из так называемых "моранов", то есть испанских евреев, насильно крещенных еще двести лет назад, но продолжающих подпольно придерживаться веры отцов. По субботам мать и бабки зажигали в подвале свечи, и стоя в полумраке, с наброшенными на голову покрывалами, шептали что-то на непонятном языке, протягивая пальцы к мерцающим огонькам. Свечи часто гасли, и их приходилось зажигать заново. Ничего удивительного в этом не было, ибо в подвале гуляли сквозняки - но очень уж символично это смотрелось. Впервые я увидел это зрелище в два года. Отец принес меня в подвал на руках и так продержал всю церемонию, хотя мать тряслась от страха и ругала его, что я могу кому-нибудь проболтаться. Отец ответил спокойно : "А если Господь спросит с меня, почему я не наставил в вере единственного сына? Откуда мы знаем, успеем ли это сделать потом?"
Ибо уже становилось опасно, возникали какие-то подозрения, и на нас поглядывали косо. Это, разумеется, тоже не добавляло спокойствия в семейную атмосферу.
Еще через два года, как я уже говорил, мы оказались в Палестине. Иерусалимская община была совсем крохотной, соплеменники приняли нас радушно, хотя и шептались за спиной у отца, почему он не привел семью куда-нибудь в Дамаск или Смирну, большие процветающие города, а забрался сюда, на край света, в глухую провинцию Оттоманской империи, где и евреев-то можно пересчитать по пальцам. Мы с отцом никогда об этом не говорили, он у меня вообще неразговорчив, но я, кажется, догадываюсь, что им тогда двигало. Полжизни он прожил в вечном страхе, заранее виновный перед всем миром - и за свое еврейство, и еще более за тайную веру. Он не желал больше рисковать. Оставшееся ему время он хотел веровать открыто. Кроме того, обеспечивал ту же возможность мне.
При этой мысли на меня нападает истерический смех. Если бы он только знал тогда... Но обо всем по порядку.
Получив положенное еврею образование, я, к ужасу родных, стал настаивать на Саламанке. В двадцать я был уже достаточно упрям (единственная черта, унаследованная мной от отца), и ему не удалось меня переубедить. А может быть, он просто доверял мне, смутно чувствуя, что возвращение в христианский мир не совратит меня с родного пути, и не за этим я стремлюсь в один из лучших университетов Европы. Что касается деда, тот уже ничего не смог бы возразить мне, ибо семь лет как покоился с миром в земле обетованной недалеко от Вечного города. Хоть в этом ему повезло.
Родина встретила меня таким же ослепительным солнцем и выжженной землей, к которым я привык за годы изгнания. Больше общего между этими двумя мирами не оказалось ничего. Язык я помнил плоховато, в городе на меня смотрели с недоумением. В университете выручала латынь, да и вообще чужак, коверкающий испанские слова, здесь был не редкостью, а нормой. Кого тут только не было! Встретился даже один парень из Кордовы - как нарочно проживший всю жизнь в двух кварталах от моего родного дома. Звали его Луис. Я, как ни силился, не мог вспомнить его лицо, да и сколько мне тогда было! Но встреча с ним сделала свое дело, и я совершил самую большую глупость в своей жизни - в первые же вакации отправился в Кордову.
Я не узнал города, где сделал свои первые шаги. Улицы сократились и сузились. Некогда огромная церковь св. Висенте, по воскресеньям поражавшая мое воображение, сьежилась до жалкой облезлой постройки, давно уже молящей о милосердной кисти маляра. Надтреснуто дребезжал единственный колокол. Тут бы мне и остановиться, но в приступе какого-то самоистязания я все шел и шел, приближаясь к своему дому. Поворот. Подскочило к горлу и опять провалилось куда-то вниз сердце. Я стоял у родного порога.
Дверь сменили. Дом окружала высокая каменная ограда. Изнутри доносились чужие голоса.
Только две стертые каменные ступеньки остались прежними. Я коснулся их, выпрямился, поцеловал кончики пальцев и отправился в обратный путь.
Глава третья. Человек за бортом.
... Вздрогнув, открываю глаза. И тут же понимаю, что послужило причиной пробуждения. Яркий свет луны заставляет меня снова зажмуриться. Он бьет в окно прямо на уровне моего лица, безжалостно заливая камеру до последнего уголка, как прожектор...
Стоп. Откуда я знаю слово "прожектор"? Кстати, Исаак, родной, как ты мог узнать биографию Фриды Кало, если фильм о ней будет снят ни много ни мало - через триста лет после твоей смерти?
Трясу головой, пытаясь привести мысли в порядок. Это удается далеко не с первой попытки. Все очень просто - у Исаака Боргеса, 37 лет, еврей, женат, один ребенок, - имеется автор, его ровесник, частый гость в Сети и фанатичный поклонник "Пиратов Карибского моря", проживающий примерно там же, где его герой отсиживает свои десять лет по обвинению в безбожии - километрах в ста от той самой старинной тюрьмы (она по-прежнему действует). Теперь эта страна независима (по крайней мере формально), и называется иначе. А Иерусалим так и остался Иерусалимом, и вообще в мире, по большому счету, мало что изменилось. У обычного человека, во всяком случае, остались при нем все его прежние заботы, болезни, страх, одиночество и всегда слишком рано наступающая смерть. Но я отвлекся...
Лунный свет в упор, слепящий глаза... Позвольте, откуда он взялся? И почему при попытке опереться на пол рука погружается в воду? И тут я окончательно убеждаюсь, что спятил. Потому что отчетливо слышу шум волн. Примерно вот так:
- Ш-с-с-с-с.... Ш-с-с-с-с...- и вроде бы водорослями потянуло, для полноты картины...
Так, все хорошо, Исаак, спокойствие, главное - без паники... Утром это обнаружат. Теперь твои прежние условия содержания тебе покажутся раем...
- Кэп! Человек за бортом!
- Что, простите?
Попытавшись задать этот простой вопрос, я хлебнул огромный глоток горькой тепловатой воды, и она же лезет в нос и уши, заливает глаза...
Когда прижмет, даже я начинаю соображать быстро. Вынырнув на мгновение, я отчаянно выкрикиваю по-испански, на языке младенчества, прочнее всего впечатанном в память:
- СПАСИТЕ! ЭЙ!
Следующая волна накрывает меня с головой, но чья-то рука уже сдавливает ребра, не давая дышать, мои ноги из последних сил молотят воду...
- Живой! Штормтрап, псы помойные! Быстро!
Снова выныриваю. По глазам незамедлительно стегает какая-то колючая веревка, да еще с шариком на конце... Черт!
- Отпусти! - сиплю я полузадушенно, пытаясь вырваться. Глаза горят от соли. Открыть их нет сил...
- Так я не понял, приятель, тебя спасать или отпустить?
Он еще смеется... Гад. Хватает мою руку, и я нащупываю перекладину веревочной лестницы. Он что, хочет, чтобы я туда карабкался?
- Держись крепче, если хочешь жить! Ну!
Это действует. Я вцепляюсь обеими руками, впиваюсь как клещ, моля столь опрометчиво отринутого мной Всевышнего, чтобы не разжались пальцы. Одновременно умудряюсь попасть ногой на перекладину ярдом ниже... И взмываю вверх.
Мокрые доски. С меня ручьями льется вода. Блаженство ощущать под задницей твердую опору. Лестницу я так и не выпустил - пальцы свела судорога. С трудом разлепляю веки.
- Да ты герой! Все, все, парень, все позади, отдай трап, он тебе больше не нужен...
Надо мной возвышаются черные силуэты, луна светит прямо из-за их спин, лиц разглядеть невозможно. Центральная тень со звериной грацией опускается на корточки и разжимает мои руки неожиданно мягким и осторожным движением тонких пальцев. Насмешливый голос раздается у самого уха:
- Добро пожаловать на борт "Жемчужины", сынок!
Глава четвертая. "Крещение".
Господи, какие же мы все дети. Глупые, жадные, нетерпеливые, чуть что кричащие "мама".
Впрочем, совсем недавно я был о себе другого мнения.
Два месяца назад я был законопослушным подданным, мужем, отцом и учителем Закона Божьего.
Теперь я никто.
У меня отобрали одежду, взамен швырнули какое-то тряпье. Попытавшись что-то спросить, я наткнулся на задумчивый взгляд надзирателя - совершенно квадратного детины с жуткой черной бородой и серьгой в ухе - и слова сами собой застряли в горле. Я наивно полагал, что страшнее уже ничего быть не может.
Это был Деметриос, которому суждено было стать моим ангелом-хранителем в этих стенах. Без него я бы пропал.
И он же теперь волок меня за плечо куда-то вниз, в подвал, по грязным каменным ступеням, так что я еле успевал за ним. В голове вертелось : "Только не сопротивляться, только не сопротивляться". Сейчас как вспомню, разбирает дикий смех. Как будто я тогда был способен на сопротивление.
...Через пару дней, меняя повязки на моей спине и вытирая пот с пышущего жаром лба, православный Деметриос не без юмора сообщил мне, что я удачно прошел свое "крещение". Некоторые новички его просто не выдерживают. Я же оказался везунчиком. Во-первых, Юсуф накануне принял чего-то такого, от чего, как объяснил Деметриос, назавтра случается упадок сил и апатия. Во-вторых, привел меня к Юсуфу именно он. Они были приятелями, если в тюрьме это вообще возможно, и Юсуф, выполнявший работу спустя рукава, мог не опасаться доноса с его стороны. А главное - такой мешок с костями, как ваш покорный слуга, у кого угодно вызовет острый приступ жалости.
Как это было? Представьте себе ночь любви, очень-очень жаркую. Представили? А теперь поставьте рядом жирный знак минуса. Точно такие же судороги скручивают тело, а стоны и крики рвутся с языка совершенно помимо воли. Какой идиот сказал, что это можно вынести молча?
Есть и те, кто считает иначе. Но я в последнее время мало в чем уверен.
Вот в чем я уверен точно - стыдно не было. Когда тебе кажется, что ты валяешься на разделочной доске, и тебя методично нарубают на кусочки мясницким ножом - чувство стыда как-то отступает на второй план...
Глава пятая. Женитьба.
Когда я сейчас спрашиваю себя, как мне, жениху из хорошей семьи и сыну богобоязненных родителей, удалось проболтаться в холостяках аж до двадцати пяти лет - то и сам не могу ответить на этот вопрос. Разумеется, меня непомерно избаловали. Ни один мой сверстник не пользовался такой свободой. Видимо, отец и сам чувствовал, что перегнул палку, и община наверняка ему пеняла. Недаром говорят, что еврей, сколько бы лет ему ни было, не станет взрослым, пока живы его родители - а мои, слава Богу, до сих пор живы и здоровы... Короче, сразу же по возвращении из университета меня женили.
С невестой я познакомился на свадьбе. Ей было двенадцать.
Увидев ее впервые, я чуть не взвыл. Передо мной стояла маленькая пухленькая девочка с красными заплаканными глазами, чего не могло скрыть даже свадебное покрывало. Неловкие красные руки, вылезавшие из рукавов платья, пытались спрятаться друг за друга. Мысленно я не без злорадства вручил ей большую тряпичную куклу - ни на что другое она решительно не годилась.
Оставшись со мной наедине, она сидела на краешке постели и глотала слезы, мужественно стараясь не зареветь в голос. Именно поэтому я быстро понял, что делать.
- Не бойся, - сказал я с улыбкой, - иди ко мне.
Она заморгала (слипшиеся ресницы, мокрые карие зрачки), потом вскочила и одним прыжком оказалась у меня на руках. Свернулась калачиком. И наконец с облегчением заплакала. Я ощутил себя Авраамом, держащим на коленях чудом спасенного сына. Я просто чувствовал, как из нее выходит детский ужас и успокаивается сбившееся дыхание.
Что говорить, отцом я стал раньше, чем мужем. Так уж получилось. Она так и заснула у меня на руках.
Проснувшись наутро, она все вспомнила и ужаснулась. Она совершила самое страшное для невесты преступление и уверенно ждала возмездия. Но я уже понял, как с ней обращаться.
- Слушай меня, - сказал я строгим голосом, держа ее за плечи и глядя прямо в глаза, - все в порядке. Ты сделала так, как я велел. Я твой муж и сам отвечаю за тебя перед Богом.
Она пристально взглянула - и успокоилась. Она поверила.
Весь день она с жаром занималась хозяйством. Моя мать осталась довольна невесткой - расторопная, приветливая, почтительная.
Звали ее Диной. Временами она даже начинала что-то мурлыкать под нос. Она уже знала,что я ее не обижу.
Вечером она сама, не дожидаясь зова, прыгнула мне на шею и уютно поджала ноги.
Я представил длинную череду вечеров, заполненных подобными супружескими радостями - и меня начал разбирать смех. Я хохотал все громче и никак не мог остановиться. И тут она рассмеялась тоже. У нее, оказывается, был очень приятный голос. Так мы полночи и смеялись с ней на пару, от души.
Утро мы встретили мужем и женой.
Она сияла от счастья. И я понял, в чем тут дело. Она не просто становилась снова хорошей девочкой, мужественно принесшей себя в жертву обычаю. Это была благодарность. Ее кровавая жертва предназначалась и мне. Только так она могла выразить мне свою преданность и почтение. Я чувствовал себя должником. Я был в замешательстве. Сказать "я люблю тебя" было немыслимо - не этого ждет праведная жена от мужа, да и к чему лгать.
- Наш брак будет благословен, - сказал я наконец, положив ей руку на голову, как отец дочери. Я сказал это, чтобы ее порадовать и притупить собственное чувство вины.
Мог ли я сознавать тогда, что сказал правду?
Глава шестая. Капитан "Жемчужины".
- Не торопись, сынок, это для тебя крепковато будет, - щедро сверкая золотозубой улыбкой, произнес мой спаситель.
Я пытался откашляться, сжимая обеими руками глиняную кружку, из которой шел пар. Пол покачнулся, я плеснул себе на колени и тихо взвыл.
- Качка, - объяснил он мне, отбирая питье, - ничего, привыкнешь. Свежий ветерок.
Как бы в подтверждение его слов каюта заходила ходуном. Я чудом удержался на стуле. Мой визави даже ухом не повел. И, между прочим, из кружки не пролил ни капли.
- Это называется ветерок? - огрызнулся я, хватаясь за край стола. В углу что-то покатилось, раздался стеклянный звон.
Мы сидели в капитанской каюте, самом чистом и пристойном месте на судне. Тут даже ноги к настилу не липли, в отличие от верхней палубы. И если бы не вода в ушах и легкий озноб, я бы чувствовал себя сносно. Оставалось выяснить, как я сюда попал. Задать прямой вопрос я стеснялся, опасаясь, что сочтут за помешанного. Может, я сплю? Я всмотрелся в его лицо.
Сидевший напротив меня человек выглядел очень живописно. Чем-то он напоминал цыганского вожака, только одетого в цивильное платье. Взглянув на многочисленные косы и бусины в черных волосах, я понял, откуда пришелся удар в правый глаз, который теперь изрядно слезился. А уж перстней на пальцах, серег и прочих украшений на нем было многовато даже для цыгана. И держался он точь-в-точь как они - самоуверенно и нахально. Смотрел в упор, нисколько не смущаясь. Я не выдержал и отвел взгляд.
- Как тебя звать, сынок? - снизошел он.
- Исаак... да какой я тебе сынок? Я постарше тебя буду,- буркнул я, застигнутый врасплох.
- Неважно, - заявил он, закидывая ногу на ногу, - я, парень, уже родился взрослым. Чего о тебе явно не скажешь. И как тебя занесло одного ночью в открытое море? Это ж надо так постараться ...
- Не помню, - соврал я. - Не спрашивай, ладно?
- Не хочешь, не говори, дело твое, - последовал легкомысленный ответ. - В этих местах мало кто спешит раскрывать свое прошлое.
- А кто вы такие? - попытался я уйти от скользкой темы.- Что это за корабль?
Не спрашивать же мне было: "Где мы находимся?" Я, кстати, совершенно не был уверен, что это Средиземное море. Вкус проглоченной забортной воды был странным и непривычным.
- Как, разве я еще не представился? - оживился он. - Позволь исправить эту оплошность. Ты говоришь с капитаном Джеком Воробьем, а подобравшее тебя судно - знаменитая "Черная жемчужина"! Слышал небось? - он замолчал, явно дожидаясь эффекта.
- А разве я должен был о нем слышать?- удивился я.
Он даже замешкался - чуть-чуть, на полсекунды. Смутить его было непросто.
- Что за манера отвечать вопросом на вопрос?
- Ты никогда не имел дела с евреем?
Мы молча уставились друг на друга. Разумеется, я отвел глаза первым. Он удовлетворенно засмеялся.
- А ты забавный... Мне приходилось бывать в Старом Свете, и евреев я, разумеется, видел... Но дела с ними и вправду не имел - они боятся чужаков... Испанский ты знаешь, стало быть оттуда? А точнее? Бургос, Альхамбра? Для еврея ты даже слишком бойкий...
- Кордова, - машинально ответил я, - постой... что ты сказал?
- Что вы обычно шарахаетесь от собственной тени, - пожал он плечами, - а христиан и вовсе на дух не переносите... Не обижайся, сынок, но это правда.
- Я не о том,- отмахнулся я, - ты сказал - в Старом Свете?
- Ну да. А чего ты так всполошился?
- А тут что, по-твоему, Новый?
Он озабоченно нахмурился и отодвинул от меня кружку.
- Сынок, пожалуй, тебе уже хватит. С непривычки-то...
Я медленно встал, держась за стол. Зрение почему-то расфокусировалось.
- Успокойся, герой, - сказал он, жалостливо наблюдая мои попытки стоять ровно, - если хочешь, пусть тебе будет Старый, только сядь.
- Где. Мы. Находимся? - выдавил я наконец. - Что это за море?
- Карибское, - очень осторожно ответил он, - а тебе какое нужно?
Сшибая посуду локтем, я стал медленно оседать на пол. Он успел обежать стол и подхватить меня под руки. Последним, что я услышал, было его сердитое:
- Вот еще наказание на мою голову! Говорил же - хватит!!
Глава седьмая. Кое-что новенькое о Деметриосе.
Выздоравливал я медленно. Неизвестно, от чего пришлось отходить дольше - от физических последствий "крещения" или от затопившего душу темного ужаса. Как известно, каждый бессмертен, пока в это верит. Каждый считает себя человеком, пока ему не доказали обратного.
Деметриос удивил меня несказанно. Этот плечистый малый с дубленой шкурой, потомок крестьян и рыбаков, оказался терпеливой, чуткой сиделкой с нежными руками. Он определял, что у меня жар, без прикосновения, одним взглядом. Когда он менял повязки на моей многострадальной спине, я не чувствовал ничего, убаюканный мягкими звуками его голоса. Не исключаю, что он продал душу дьяволу, потому что естественным путем такому научиться не дано.
На третий день я очухался настолько, что сумел спросить, откуда он родом.
- А тебе на что, кейрос?*- буркнул он под нос. Вообще по мере моего выздоровления он все снижал и снижал градус приветливости, очевидно полагая, что здоровому узнику это ни к чему.
- Хочу поблагодарить тебя, - порывшись в памяти, ответил я на новогреческом. Он слегка удивился.
- Откуда знаешь?
- Учился. Так откуда ты?
- С Понта.
Мне удалось разговорить его. У каждого человека есть слабое место. У него, вынужденного общаться в основном с турками, таким местом оказался родной язык. На нем он мог говорить только с семьей, обитавшей тут же, при казарме. Фактически он немногим отличался от заключенного, с той только разницей, что стоял не на нижней, а на предпоследней ступени. И получить по шее от начальства любого уровня мог так же запросто, как и я. В принципе, что его, что меня можно было даже убить, не нарушая никаких писаных и неписаных законов. В империи, как известно, все рабы, а единственный свободный, он же высший - тот, кто венчает пирамиду. Все это он мне неторопливо втолковывал, а я слушал, впервые в жизни не перебивая собеседника.
- Держись меня, парень, - подытожил он краткую лекцию, посвященную вопросам выживания в этом мире вообще и в тюрьме в частности, - и тебя не тронут.
Черное отчаяние в душе сменилось какой-то лихой отвагой. Я вообще человек крайностей и легко впадаю в эйфорию. Но судьба, как известно, такого не любит.
Через неделю, когда я уже начал вставать, Деметриос взял меня с собой на кухню, помочь с уборкой. С трудом переставляя ноги, я плелся вслед за ним по внутреннему дворику, щурясь от полуденного солнца. Меня еще шатало, и пришлось схватиться за стену.
- Эй, здорово, гяур*! - грянул над ухом жизнерадостный голос. - Живой все-таки? Оклемался?
Я врос в землю. Приветливо улыбаясь, ко мне направлялся низенький носатый толстячок самого добродушного вида. Такими в своих комедиях выводит турок Мольер, сроду их не видавший. Чего не знаешь, то не пугает.
Это был не кто иной, как Юсуф, весело болтавший с моим провожатым.
- Ну, чего молчишь, чефыд*? В прошлый-то раз ты был поразговорчивей! - Он ткнул меня пальцем в грудь и захохотал, очень довольный собственным остроумием.
Я стиснул зубы. Вот теперь стало нестерпимо стыдно. Я молча стоял и глядел в землю, хотя умом и понимал, что рискую, раздражая его, что должен подыграть. Он ждал, чтобы я вместе с ним посмеялся над забавной историей, в которой мы оба принимали участие неделю назад. А то, чего доброго, он мог подумать, что я не разделяю его восторгов. Так и до угрызений совести скатиться можно, а зачем они ему, на такой-то тяжелой работе?
Все это промелькнуло в мозгу в доли секунды, и я понял, что пропал. Я не мог заставить себя улыбнуться. Хотел, но не мог.
Выручил меня Деметриос.
- Ладно, оставь его, приятель, не видишь, он малохольный.
- Тебе-то что до него? - удивился Юсуф. Потом наступила странная пауза. Подняв все-таки голову, я увидел на лице экзекутора напряженную работу мысли. Потом, что-то поняв, он просиял :
- Ай, греческая твоя шкура! Так ты его для себя приглядел? Молодец, даром времени не теряешь. Ладно, не нужен он мне, успокойся. Больно уж тощий ... - и он снова захихикал. Все так же беззлобно.
..........................
- Ну что, - в упор спросил меня Деметриос, когда Юсуф удалился,- так и будешь стоять? Работа не ждет.
То, что от меня осталось, ответило ему тупым, бездумным взглядом. Я даже смерти себе не желал, - человеческие чувства имеют предел, а там будь что будет.
- Не трону я тебя, кейрос, - угрюмо ответил он на незаданный вопрос, - и не собирался.
- Так ты ?...- прошептал я чуть слышно, заранее ужасаясь ответу.
- Да. И он тоже. С той разницей, что мне никого принуждать не приходится - ни женщин, ни мужчин. Успокойся. Все, пошли на кухню, работы много.
И тут пришла его очередь удивляться. Он, наверное, решил, что я спятил от пережитого потрясения. Потому что я вдруг схватился за голову, согнулся пополам и захохотал, да так, что Юсуф, будь он еще здесь, наверняка остался бы мной доволен.
Почему я смеялся? Могу сказать.
Я вдруг отчетливо вспомнил собственные слова, сказанные во время первой брачной ночи...
-----------------------
* кейрос - парень (гр.)
* гяур - неверный (тур.)
* чефыд - еврей (тур.)
Глава восьмая. Бесплодная смоковница.
Прошел год нашего супружества, второй, третий.
Дина не беременела.
К пятнадцати годам она совершенно преобразилась. Выросла, постройнела, стала вровень со мной. Тело ее теперь напоминало тонкий изящный кувшин для вина, со столь же сладостным содержимым. Походка стала величественной; даже если она просто проходила через двор с корзиной белья, я замирал от красоты ее движений. Отросшие волосы струились по плечам темным водопадом, и лежа в полумраке спальни, я готов был часами любоваться этим зрелищем. Умолял ее не торопиться забирать их под головную повязку, скрывавшую, как положено, все до последнего волоска. Но даже повязка ее не портила. Что говорить, я был в полной мере вознагражден за свое терпение.
Но она не беременела.
Сначала она никак не проявляла своего беспокойства, потом между ее изогнутых бровей залегла тоненькая темная складка. С каждым месяцем взгляды моей матери все чаще останавливались на талии припозднившейся невестки, отец начал тихонько вздыхать и стал дольше задерживаться по вечерам в синагоге. Как будто некое серое облако повисло над головой Дины, и все росло, темнело, сгущалось.
Я попытался подбодрить ее, как тогда, в первое наше утро, но осекся под ее взглядом. Она уже была вполне взрослой женщиной. Она не нуждалась в жалости и утешениях, а хотела честно выиграть свой поединок. Так прошло еще несколько лет.
На исходе девятого года отец решился поговорить со мной. Он, как и положено отцу и благочестивому еврею, искренне считал себя в ответе за своих детей, сколько бы лет им ни было. Не удивлюсь, что и виновником моего несчастья он тоже считал себя. Например, потому, что растил меня слишком мягко (вот когда наверняка припомнились дедовы упреки!). Позволил мне на целых пять лет удалиться в чужой, полный соблазнов мир, откуда я вернулся слишком развращенным свободой.
- Нужно было женить тебя в четырнадцать, как меня самого женили в свое время, - вздохнул он, - тогда у меня уже был бы десяток внуков.
- У тебя есть внуки, отец, - возразил я, замирая от собственной дерзости. Это была правда. Две мои старшие сестры оказались плодовиты. К сорока годам обе превратились в сварливых толстух с красными руками и лицами, и каждая проходила по улице, волоча за собой гроздь ревущих ребятишек, а под сердцем неся следующего. Нельзя сказать, что в их семьях царил мир, дети частенько получали тумаки, побаивались родителей и постоянно дрались между собой, мальчики и девочки, без разбора. Но это не значило ничего, главное - брак был благословен. Народ Израиля продолжал себя в детях, на радость Всевышнему.
А моя красавица жена оказалась никчемным товаром.
- Через год будет десять лет, - с усилием сказал отец, пропустив мимо ушей мое непочтительное высказывание,- и если к тому времени...
- Нет, отец, - услышал я чей-то голос и с изумлением понял, что эти кощунственные слова произнес я сам.
Он, наверное, решил, что ослышался. Непонимание на его лице сменилось гневом, рука потянулась к посоху. Я замер.
- Другой отец поговорил бы с тобой иначе, - произнес он наконец, тяжело дыша.
- Я в твоей руке, - ответил я, не опуская глаз, - поступай как хочешь.
И тут он выронил посох и заплакал. Я в ужасе смотрел на него, не смея приблизиться. Нечего было и думать обнять его - такой непростительной фамильярности не водилось даже в нашей просвещенной семье.
Он сделал мне знак выйти. Я молча повиновался.
В спальне - единственном месте в доме, где можно было укрыться от посторонних глаз, я застал ее. Она не плакала, лицо было безмятежным и бездумным - и это показалось мне куда страшнее слез. Я понял, что она решилась сама.
- Если через год я не забеременею, - ровным голосом сообщила мне моя жена, - то потребую у тебя развода.
- И ты! И ты тоже! Что я сделал тебе, что ты так меня ненавидишь?
- Ты добрый муж и потому нуждаешься в хорошей жене.
Я опустился на колени и уткнулся лицом в теплую впадину ее платья. Она не противилась, но и не прикоснулась ко мне.
Я поднял к ней залитое слезами лицо:
- Дина. Девять лет назад на этом месте я пожалел тебя. Неужели ты сейчас...
Она ответила мне жалостливым взглядом, в котором ясно читалось : "дурачок, как ты не понимаешь, у меня нет выбора". Она отвергала меня первой, чтобы этого не сделал я сам.
В тот день я понял несколько простых, но чрезвычайно важных вещей. Первое - как ни прячься от судьбы, она тебя достанет. Второе - любая женщина по определению старше мужчины, ибо она мать. Если нет своих детей, она будет матерью брату, мужу, отцу. И, как положено матери, возьмет их муки на себя. Третье и главное - законы Торы писаны вовсе не в расчете, что их станут соблюдать буквально. Люди не ангелы и все равно будут нарушать запреты. Но зато пусть пожизненно мучаются виной за то, что их нарушили.
Я пошел к главе иерусалимской общины, равви Ицхаку Гуру, моему тезке.
Он принял меня почти сразу, на удивление быстро. Это был маленький высохший старичок с кустистыми бровями и носом картошкой. Такими изображают гномов на немецких гравюрах. Рядом с ним я почувствовал себя переростком, даром что сам всегда был ниже сверстников.
Он молча указал мне на стул напротив себя. Я помешкал, но все-таки сел.
- Исаак Боргес, - заговорил он тоненьким старческим голоском, - известный толкователь Писания и лучший ученик ешивы. Здоровы ли твои почтенные родители?
- Да, - сипло ответил я и прокашлялся, - благодарю, равви, дома все здоровы.
- И твоя жена тоже? - взглянул он в упор.
- Да, равви, - твердо ответил я, поняв, что терять нечего, - моя жена здорова и благополучна.
Он помолчал, пожевал губами. Это выглядело очень забавно.
- Ты когда-нибудь слышал имя Баруха Эспинозы? - вдруг спросил он.
- Да, равви, - ответил я, - он был отлучен амстердамской общиной за безбожие и умер в изгнании, никогда больше не увидев своей семьи.
- Твои родители очень любят тебя, - сказал он, помолчав, - вашу семью почитают. Доброе имя следует беречь от пятна, потом уже не отмоешь.
- Да, равви, - произнес я сквозь ком в горле, - и мне бы не хотелось, чтобы о моих родителях плохо подумали. Например, что они воспитали плохого сына, который отверг свою благочестивую, усердную и добрую жену только из-за того, что она ДОЛГО не беременела.
- Долго? - переспросил он, будто недослышал. Его взгляд вцепился в меня и не отпускал. Я кивнул.
- Праматери нашей Рахили это не удавалось в течение двенадцати лет. А если бы Иаков отринул ее за бесплодие, где был бы сейчас народ Израилев?
- У Иакова было две жены, - задумчиво ответил равви, - он мог бы позволить себе и такое...
- А я не могу, равви, - подытожил я, - Дина у меня одна.
- Одна? - уточнил он на всякий случай.
- Одна, равви, - как мог твердо ответил я.
Он откинулся в кресле со странно удовлетворенным видом.
- Благодарю за интересную беседу, - произнес он и снова впился в меня взглядом. - Мир тебе. Передай привет ВСЕЙ твоей почтенной семье.
Я молча поклонился и пошел обратно в свой зачумленный дом.
А на следующее утро Дина ощутила первые признаки беременности.
Глава девятая. Знакомое место.
- Ну, как дела, герой? Очнулся? - весело спросили откуда-то сверху из темноты. Голос был женский.
Я разлепил правый глаз. Попытался привстать.
- Простите, с кем имею... - Голова отозвалась дикой болью. Я со стоном опустился обратно на койку. - О-о-о... Сударыня, скажите, я умру?
- Сейчас нет, но когда-нибудь обязательно. Лет через сорок.
- А что со мной было?
- Ничего страшного, обморок. Напоили на голодный желудок, узнаю Джека.
Надо мной стоял миловидный круглолицый подросток и улыбался так тепло, что даже чуть полегчало.
- Кто вы, спасительница?
- Сью Варлок. Можно просто Сью. На данный момент - исполняющая обязанности лекаря. А вы?
- Исаак Боргес, к вашим услугам. Не далее как час назад тихо-мирно сидел там, где мне и положено. В одиночной камере...
- А потом в стене открылось окно?
- А вы откуда знаете?
Она тихонько засмеялась.
- Не вы первый... На "Жемчужину" обычно попадают именно так...
- Как попадают?
- Ну... переносятся. Не знаю, как объяснить. Кто на раз, кто потом еще заглядывает. Я, похоже, застряла надолго...
- А почему я ... попал... перенесся?
- Этого никто толком не знает. Видимо, сюда заносит именно тех, кому это очень-очень нужно. Вот вы там, небось, сидели один, поболтать не с кем?
- Не то слово...
- Ну вот видите. Здесь такая опасность не грозит. Правда, хватает других. И погибнуть тут - раз плюнуть.
- Вот даже как... А можно вернуться?
- Вас так тянет назад в тюрьму?
- Нет вообще-то... Но мне нельзя уходить насовсем. Меня дома ждут.
- Значит, вернетесь, когда время придет. Ну-ка, попробуйте встать...
К моему удивлению, хоть и со второй попытки, но подняться мне удалось.
- О-о, - протянул я, цепляясь за стену, - я, оказывается, многого о себе не знал... Думал, после смерти уже не встают...
- Вы еще немало о себе узнаете, - успокоила меня Варлок, - тут это со всеми случается... Ну что, пошли на палубу?
- Только после вас...
- Раз уж вы такой вежливый, возьмите меня под руку, а то с этого трапа и здоровый загремит - мало не покажется.
- Протестую! Я здоров!
За этой приятной беседой мы и выбрались на палубу. От холодного воздуха сразу стало лучше. Я выпустил руку девушки и прислонился к мачте. Ветер рвал с головы волосы. Палуба под ногами вела себя довольно самостоятельно.
Странное чувство... Я был готов поклясться, что когда-то уже все это видел. Эту плохо надраенную палубу, эти черные паруса, этот разношерстный экипаж. Я знал, сколько на борту человек, некоторых помнил по именам. Пожилой бородач с попугаем на плече - немой мистер Коттон... Плешивый, мне по пояс, карлик в бархатной жилетке - Марти... Плотный мужчина с бакенбардами, немолодой, но еще крепкий - Гиббс, боцман... Но главное, я уже определенно встречался с Джеком... раньше... когда-то. Наваждение, да и только...
На борту явно что-то происходило. Команда сновала по палубе, казалось - совершенно хаотично. Но тем же странным чутьем я угадал в этой кажущейся суете порядок и смысл. Полюбоваться тут было на что...
Живописнее всех, разумеется, выглядел капитан Воробей. Одной рукой он вертел штурвал, с другой стряхивал рукав камзола. Он скалил зубы в радостной ухмылке и азартно орал:
- Шевелись, ребята, нагоняем! Поднять английский флаг, живо!
А вот этих я тоже знаю. Низенький лысый толстяк ловко заряжал огромный пистолет. Рядом лихорадочно вставлял на место искусственный глаз его товарищ - тощий и придурковато улыбающийся. Высоченный детина в красном платке сорванным голосом отдавал команды снующим у пушек канонирам. Возле ближайшей ко мне мачты столпились человек пять, кто-то тянул за таль, и ввысь рывками уползал косо перечеркнутый красным по синему флаг Великобритании. Остальная команда разбирала абордажные крючья и готовилась к бою.
- Зачем флаг? - крикнул я в ухо Варлок, - разве это английское судно?
- Скромному джентльмену удачи незачем светиться раньше времени, - непонятно ответила девушка, - вот подойдем поближе... - и она указала куда-то влево. Я повернул голову.
Совсем рядом с нами величественно разворачивался испанский галеон - единственный тип корабля, который я способен определить с первого взгляда. Он был куда больше "Жемчужины", высоченная корма возвышалась, как крепостная башня. На корме сияли золотом крупные буквы : LA AMISTAD.
Глава десятая. Минарет.
Белый квадратный камень. Ноздреватая поверхность изрядно засалена моей спиной и локтями. Ложась спать, я всегда подкладываю запасную куртку между собой и этим камнем. Иначе холодно, даже летом.
Два дня назад мне дали свидание. Лучше бы не давали.
Стройная красавица со страшными, темными кругами под глазами. Лоб перерезала вертикальная морщина. Изящные пальцы дрожат еле заметно. Она высоко держит голову и улыбается ровной улыбкой - теперь она мать, а я сын. Мне здесь тяжело. Меня надо поддерживать.
На руках у этой незнакомой, закованной в броню Дины - двухлетний малыш, милый, светлокожий. Рыжеватые колечки волос. Приветливый взгляд, в нем нет страха, нет застенчивости. Дина растит ребенка не так, как растили моих родителей, и не так, как растили меня. Не запугивает, не стыдит, не упрекает за любоую шалость. Дает очень много свободы. Теперь, наверное, мой отец ворчит целыми днями, что мальчика слишком распустили. Все возвращается на круги своя.
Ребенка зовут Мордехай.
Я же стою по другую сторону решетки, пытаясь улыбаться, и при виде этих женщины и ребенка, от которых за версту веет сиротством, мне хочется выть. Потому что погубил их не кто иной, как я сам.
- Исаак, проснись, будь ты неладен!
Нехотя поднимаюсь. С Деметриосом шутки плохи - не встанешь, получишь затрещину. Рука у него тяжелая. Последние дни только это соображение и заставляет меня подниматься по утрам, давиться принесенной пищей, через силу глотать теплую воду из кружки... Иначе так бы и валялся целыми днями, пялясь на белый камень. Правда, он не знает, что будить меня не надо - я и так всю ночь не спал.
- Пошли, - бросает он мне.
- Куда? - вяло возражаю я - двигаться совершенно неохота.
- Увидишь.
Он так бережет слова, как будто каждое обходится ему в золотой... Фразы из одного слова - его конек. Даже забавно. Зевая, я плетусь за ним - вверх, вверх по крутым ступенькам, поеживаясь от утренней прохлады. Скоро осень, похолодает, жара будет вспоминаться с ностальгией... И вдруг в лицо ударяет ветер.
Вздрогнув, я понимаю, что стою на верхней площадке круглой каменной башни, обнесенной по краю ржавой оградой. Рядом - коническая закругленная каменная верхушка с облезлым золотым полумесяцем на спице. Внизу - Город. Видны крыши домов, ниточки улиц, скупые пятна зелени. Ветер лезет в рот и не дает дышать.
Деметриос привел меня на площадку минарета.
- Смотри, кейрос.
Я поневоле смотрю. Дышать нечем, но почему-то невидимый тугой обруч, сдавливавший мои ребра последние несколько суток, чуть ослабевает. Кружится голова, я было пошатнулся, но ограда держит надежно.
Глаза уже слезятся, но закрывать их не хочется. Жалко упустить такое зрелище.
Никогда в жизни я не видел Города с высоты птичьего полета.
Деметриос берет меня за плечо, разворачивает к себе :
- Понял?
- Понял, - глупо отрицать правду.
- Тогда пошли обратно. Много дел.
Мы начинаем спускаться.
-------------------------
продолжение следует
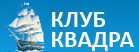

 ')
')
 ')
')