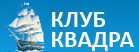/Метафизические нонконформисты Серебряного века/
Конец XIX – начало XX вв. – период, отмеченный небывалым подъемом в области культуры и искусства, заслуживает того, чтоб называться ренессансным. Не удивительно ли, что на небосводе трёх отдельных стран одновременно зажглись три ярчайших звезды в области литературы: Михаил Арцыбашев (1878-1927), Станислав Пшибышевский (1878-1927) и Ладислав Клима (1978-1928). Они были людьми, вызвавшими большой ажиотаж в литературной среде. Этих, на первый взгляд, не похожих писателей, объединял неукротимый порыв выбраться за границы человеческого, некий трансгрессивный рывок к Олимпу духа. Кроме того, объединяла их восприимчивость к философии великого Фридриха Ницше, покинувшего мир в 1900 году, когда Арцыбашев, Пшибышевский и Клима начинали свой путь в мир литературы.
Русская литература. Михаил Арцыбашев.
Не оставляет никаких сомнений тот факт, что Арцыбашев близко воспринял философию Фридриха Ницше. Арцыбашев, чьи строки полны смертью и им самим, открытым, выраженным в слове, нагим, как при рождении. Писатель, прошедший через соблазн самоубийства, прикоснувшийся к смерти и с тех пор её не отпускавший, представляется мне человеком, который задавал «проклятые» вопросы в пустоту, получая, как лирический герой стихотворения «Ворон», убийственное: «Nevermore», но это его только возвышало, ибо «всё, что не убивает, делает нас сильнее».
Те, кто имели удовольствие читать произведение «Санин», наверное, сразу наградили его эпитетом «ницшеанское». Дионисийский дух, воля, смелость, ум. Санин из тех, кто не станет утешать и жалеть; одним его правда несёт смерть, другим – освобождение. Никогда не упущу возможности улыбнуться чьему-то иллюзорному якобы целомудрию, а Санин улыбаться не стал: «Вот если бы в тебе при виде голой женщины и желания никакого не появилось, ну тогда был бы ты целомудренный человек…И я бы первый твоему целомудрию удивлялся бы…хотя бы и не подражал и, весьма возможно, свёз бы тебя в больницу…А если всё это внутри у тебя есть и наружу рвётся, а ты его только сдерживаешь, как собаку на дворе, так цена твоему целомудрию – грош!» Истинно. В Санине воплотилась та беспредельная смелость, которая не остановится ни перед чем. Увидевший всё ничтожество человека, он сказал, что тому и, правда, лучше умереть. А он взял и наложил на себя руки. И виноват в его смерти уж точно не честный Санин, виноват тот, кто позволил своей жизни опуститься до скотского существования, до самопрезрения и признания в собственной неполноценности, немощности, бестолковости. Да, необходимо научиться говорить людям правду, чтобы не презирать их за ту ложь, что они вынуждают тебя говорить.
Вдохновившись этим произведением, я принялась за следующие творения Арцыбашева. Ими стали повести и рассказы. Удивление было большим. Что сразу бросается в глаза, так это восприятие смерти как тотального конца, за которым следует небытие, в самом грубом из его значений – уничтожении. Отсюда берёт начало беспробудный пессимизм. Другие писатели бросаются в противоположную крайность – проповеди о воскрешении. И то, и другое – одинаково ошибочно. Если экзистенциалист перед лицом смерти постигает, что значит жизнь, и откровение о ней делает его только сильнее, становится ни больше, ни меньше, как внутренним преображением, метаморфозой, инициацией, то персонажи Арцыбашева, сознавая неотвратимость смерти, теряют движущую силу, уподобляя жизнь существованию. И дни они уже не проживают, а влачат и сами эти дни – не что иное, как подсознательное ожидание смерти, что положит всему конец. В этом слабость Арцыбашева как человека и мыслителя. Я давно пытаюсь ответить себе на вопрос, почему мне близка не русская, а зарубежная литература, а первую я изучаю единственно для того, чтоб изучить противоположность, не отрицая ни одну из граней этого мира. И однажды, наконец, пришла к пониманию. На страницах своего дневника Олег Телемский сказал о русской ментальности, употребив эпитет «хтоническая». Совершенно верно. Почему же я не могла так лаконично и точно выразить это, хотя сама всё предчувствовала и понимала? Хтоническая. При всём своём восхищении многими русскими классиками, я никогда не могла отделаться от мысли, что всё это «о земном, да о земном», даже в те моменты, когда, казалось бы, глаголют о небесном. Примечателен тот факт, что Готфрид Бенн, описывая распад, этим самым распадом не вторгся в мой мир, тогда как строки, скажем, весьма любимого мною Сологуба, которыми он говорит о посторонних вещах, пахнут землёй и мёртвым телом. Одно из моих «я» влечёт этот тлен, поскольку оно по сути своей некротично и пропитано мортидо. Не столько следствие очарования подобной эстетикой, сколько данность, оставшаяся мне от клинической смерти. Я умею принимать все явления этого мира, действуя во имя объединения противоположностей и выхода на внечеловеческий уровень. Собственно, поэтому я стараюсь сочетать русскую классику с произведениями зарубежных авторов, ногами упираясь в землю, головой подпирая небо. Я люблю повторять, что человек распят между 1 и 1.
«Так как все люди, в конце концов, умрут, то не всё ли равно, раньше или позже?» - в этих строках весь Арцыбашев, вся его жизненная философия, поместившая этого человека в некий тёмный коридор, где кричи-не кричи, не появится ни одного окна. Вновь выдаётся это «хтоническое», которым заражена практически вся русская литература. Если Достоевского всю жизнь мучил вопрос, существует ли Бог, то Арцыбашев подсознательно задавался вопросом, есть ли жизнь после смерти. Потому он ходил за Смертью по пятам (хотя в большинстве случаев всё происходит как раз наоборот), но при этом созерцал самые вульгарные её формы, - в сознании писателя Смерть была не более чем деревянным гробом, сырой землёй и остывшим телом, что подвержено распаду. Удивительная позиция: нахождение между гиликом и психиком, уподобление себя маятнику. Воспринять жёсткое «нет» за аксиому, а далее ментально убиваться от неотвратимости якобы конца, тем самым обесценивая саму Жизнь, - величайшее несчастье Арцыбашева. Меня заинтересовали следующие строки:
- Знаете, голубь мой, у человека есть одна только сила, которую никто и ничто не может победить…Всё можно победить, можно убить жизнь, можно пресечь всё…но есть одна сила, которая ничем не уничтожается и остаётся как яд, который ничем уже нельзя вытравить
- Какая же?
- Ирония…И знаете, самым непобедимым человеком в мире мне представляется тот анекдотический турок, который, будучи посажен на кол, сказал: «Недурно для начала!..»
Примечательно, что именно Арцыбашев и не умел смеяться. Это мастерски делала Фаина Раневская, Чарльз Буковски, который при «ближайшем рассмотрении» оказался человеком глубокомысленным и трагичным вопреки сложившемуся образу бабника и пьяницы. Но не Арцыбашев.
Польская литература. Станислав Пшибышевский.
Заинтересовала личность Станислава Пшибышевского, польского декадента, которого называли «двойником Ницше». На протяжении всей жизни писатель поддерживал слухи о том, что является сатанистом. Пшибышевский был тем, кто ввёл в литературный обиход термин «naga dusza» — «обнаженная душа». Пшибышевский дерзнул объявить, что «В начале был пол. Ничего, кроме него, - всё в нём».
Чтобы ответить определённо, кем всё-таки был Пшибышевский, мало быть знакомым с его легендарными трудами «Синагога Сатаны» и «Homo Sapiens», да и сама вероятность ответить определённо кажется мне нелепой. Не сказал ли сам Пшибышевский, кто он есть, прибегнув к концепции «я – синтез…», как то «синтез Ягве и Сатаны», «синтез самого опьянённого вдохновения и хладнокровно рассчитанной утончённости», но самым точным, на мой скромный взгляд, является определение «синтез Логоса и Камы, - слово, ставшее плотью». Вот кем был Пшибышевский.
Объединяя противоположности, Пшибышевский сталкивает их в каком-то безумном, кровопролитном и жадном порыве, возносясь на высоты в дионисийском экстазе, стеная и смеясь от боли, претворённой в чистейшую радость. Впервые вижу подобное.
«Заупокойная месса». Как лотос, вырастая из грязи, Он, плод разлада между душой и материнской маткой, постоянно «чувствовал себя чем-то беспорядочным, полным противоречий», напитанным (даже зараженным) категорическим отрицанием пола. В прошлом Он был а-синтезом, анти-синтезом, «прообразом распадения и разрушения». Теперь Он – тот, что хочет вернуть себе пол, избавиться от разлада между полом и душой. «Теперь я весь – синтез, весь – сосредоточенность, весь – пол», «теперь я воплощение Логоса, когда он стал заветом плоти». Секс Его – схватка, растворение в Другом, «всасывание» духа, задыхающееся «аллилуйя» Его сладострастия. Кто, кроме Пшибышевского мог бы написать:
«С трепещущей, судорожной, разрывающей мозг страстью, с лихорадочным зноем, бушующем в моём мозгу, с бешеной силой моих окрепших от желания членов, я хочу трепетать от землетрясения твоего тела, ничего не чувствовать, кроме раскалённого зноя твоих членов, ничего не слышать, кроме ревущего урагана моей крови, ничего не ощущать, кроме колющей, грубой боли любовного бреда, - я хочу перестать страдать в победном дифирамбе пола, в шумящем прибое страшной симфонии тела».
Он вернул себе пол и теперь мог его похоронить. Мистерия объединения свершилась. Женщина, с чертами его матери, отброшена в припадке отвращения, - так Он обретает свободу. «Я взглянул на землю; она спала. Я взглянул на небо; оно было тихо. Невыразимое чувство разлилось во мне пред этой могильной тишиной, перед этим широким, кладбищенским покоем». Заупокойная месса – погребение Идеи Пола и Размножения.
В описаниях Пшибышевского много галлюциногенного, нервического, отличающего натуры крайностей, которые любят подходить к обрыву и, борясь с чудовищным страхом падения, предавать бумаге все возникающие в воспалённом мозгу мысли. Сам Пшибышевский в небольшом предисловии к «Мессе» признаётся в своей заинтересованности неврозами и психозами.
Что и говорить, человеком он был в высшей степени необычным.
Для Пшибышевского существовали два противоположных полюса: душа и мозг. Намеренно игнорируя второй, он бросался в омут первого, доставая из бессознательного поистине запоминающиеся картины. Да что там картины! Целые миры! Другой момент, который невозможно не отметить, заключается в том, что Пшибышевский, положив на весы Мысль и Действие, кладёт свое сердце и писательское перо на чашу Мысли. О её тождественности с Действием говорил Арто, основным назначением человека Дюрренматт называл способность мыслить и, не отрываясь от философского дискурса, замечу, что я неоднократно утверждала Мысль как первоначало («В начале была Мысль»). Центром Вселенной Пшибышевского была Душа, герои его произведений – это люди, удостоенные её откровений («Единственное, что интересует меня, это загадочное, таинственное проявление души со всеми сопровождающими его явлениями, бредом, видениями, так называемыми состояниями психоза…»)
Любопытны его слова о Ницше:
«Гибель Ницше именно тем и объясняется, что он представлял высшую степень человеческого развития и даже нечто выше её, что он одной половиной своего существа проник уже в новый период развития, что центр тяжести развития его организма переместился в мозг, что он постоянно вынужден был становиться «преступником» против самого себя, что он был вечным разрушителен и созидателем, непрестанным действием и переживанием, непрерывным приливом и отливом. Ему было свойственно то лихорадочное состояние, которым сопровождается вывод из организма испорченной и гнилой материи, нечто вроде «астмы души», так как условия существования, среди которых он жил, были созданы не для него, ему была свойственна та исключительная нервность, особенная чувствительность, общая чрезмерная утончённость, которые отличают особей, стоящих на рубеже перехода к новой фазе развития».
Как сообщают источники, в конце жизни Пшибышевский якобы отрёкся от сатанизма и вернулся в лоно церкви. Для меня это было ударом, ибо подобные поступки я воспринимаю как перечёркивание пути, всего опыта, что был накоплен человеком. Но по сей день я не знаю, можно ли верить этим источникам или же стоит воспринимать эти слова как слух, попытку неких людей "обелить" Пшибышевского.
Чешская литература. Ладислав Клима.
Однажды в мои руки попала книга чешского писателя Ладислава Климы под названием «Страдания князя Штерненгоха» и мне хотелось бы остановиться подробнее на идее объединения противоположностей, которая проходит красной нитью через всё произведение. Но сначала небольшое отступление. Автор признавался, что его роман «в 10 раз реалистичнее и отвратительнее, чем Золя, в 10 раз фантастичнее, чем Гофман, в 10 раз непристойнее, чем Казанова, в 10 раз извращеннее, чем Бодлер». Князь Штерненгох видит на одном балу 18-летнюю Хельгу, чья внешность была настолько безобразна, что её собственный отец отзывался о ней, как о «гнилом чудовище». Тем более странным оказывается неожиданное желание князя попросить её руки. «И всё-таки что-то тянуло меня к ней, что-то тёмное, странное, дьявольское. Да, здесь вмешался дьявол и никто иной!» И вот здесь начинается кошмар, из-за которого ещё в 1928 году члены профсоюза чешских учениц отказались от подписки на книжную серию «Плеяда», в которой был опубликован роман Ладислава Климы.
Прокажённая блядь и несущее Любовь существо, гадюка и голубь, презренное животное и «попытки создать гениальную женщину». Поражаюсь тому, как Ладислав Клима обыгрывает тему объединения противоположностей: они заключают друг друга в страстные объятия, примиряя тёмное со светлым, мёртвое с живым, звериное с человеческим, человеческое с божественным, рабское со свободным, безобразное с прекрасным, тусклое с сияющим. «Я вспомнила об очень многом, что до сих пор было передо мной скрыто завесой. Главное, что я поняла, что «мертва». Никто из умерших этого не хочет понять. Мысль «я мертвец» убивает того, что до сих пор чувствует под ногами почву этой вашей «жизни». И меня она сперва повергла на землю: но вскоре я стала смеяться над этой идиотской ошибкой: потому что вся ваша явь это ужасная ошибка, возникшая из Всеобщего идиотизма. Человек должен быть Богом; всё остальное в человечестве – дерьмо!» Сама жизнь этой бестии есть неустанная борьба и меня, признаться, удивило, что Ладислав Клима дал Хельге проиграть. «Ночь не может войти в День; летучей мыши не дозволено желание стать солнечным орлом. Я надеялась, что примирю все это. Невозможно. Невозможно всё-всё любить; следовательно, и всё самое гнусное». Вот она – загвоздка. Как растворить в Любви презрение к стаду? «В величайшее мгновение, когда всё рухнуло, я познала, что забрызганная ненавистью, не смогу стать Сиянием. И в эту минуту Воля и всё остальное отказалось мне служить. Раз и навсегда». Переход к альбедо невозможен до тех пор, пока всё не станет Сиянием. Но куда больше удивили меня последующие слова женщины, в которой ещё слишком много ненависти: «Её [битву] я проиграла. Но Я не проиграла. Проиграть что-либо значит только одно: вскоре это выиграть. Вместе с болью растет сила. Единственной матерью силы является боль. Ты не можешь дождаться, когда я буду сломлена, «исправлена»: такую душонку, как у тебя, это сломило бы тысячу раз! А я – из кремня превратилась в алмаз!» Князь Штерненгох примиряет противоположности раньше, но единственно благодаря этой женщине. Как подмечает Клима, князь «балансировал между Сном и Посмертием» и «безумие Штерненгоха превратилось в Сверхбезумие, которым является Вечность и Всё сущее. Что было земное, то лежало глубоко под ним. На мгновение он, самый ничтожный среди идущих на смерть, стал Богом. Может быть, «навсегда». Я в шоке от того, что одно из самых загадочных и по-настоящему великих произведений столько лет осуждалось и носило эпитет порнографического.
Помимо всего прочего прочла «Собственное жизнеописание философа Ладислава Климы». Боюсь, большего мизантропа мне встречать не приходилось. Становится ясно, что Хельга и князь Штерненгох – это два «я», два начала – женское и мужское, - обитающие в Ладиславе Климе, из которых доминирует Хельга, в то время как Штерненгох по большей части пассивен и созерцателен. Прирождённый нонконформист Клима интересовался только свободой Воли (а в парадигме его мышления Воля есть Бог); он сделал всё, чтобы покинуть школу, где процветал «стадный идиотизм» и более не соприкасаться ни с одним учебным заведением. С людьми он почти не контактировал. Его окружали кошки, природа и Воля. С «богом» он непрестанно сражался. С тем богом, которого бичевал Мальдорор.
Клима признаётся: «Вся моя жизнь была таким последовательным отклонением от всего человеческого». Точно как Ницше, он жил на краю пропасти. Арцыбашев, Пшибышевский и Клима никогда не встречались, но гипотетически пути их могли пересечься: в 1923 году Михаил Арцыбашев эмигрировал в Польшу, где и скончался через четыре года, не дожив до пятидесятилетнего возраста. В тот же год не стало Станислава Пшибышевского. За свой творческий путь он успел сделать многое, в том числе и побывать в России. 1928-й положил конец жизни чешского авангардиста Климы. Вслед за автором «Метафизики преступления» хочется вопрошать: «Много ли знает мировая литература примеров прямых репортажей из экзистенциальных, метафизических бездн?» Все эти люди держали путь в ту область, где пропадают и сливаются противоположности. Это та самая точка, ««в которой жизнь и смерть, реальное и воображаемое, прошлое и будущее, выраженное и невыразимое уже не воспринимаются как понятия противоречивые» (Бретон) Три судьбы, отмеченные печатью избранности. Три звезды, рождённые Заратустрой, что танцевали на краю бездны.
Через Бездну к Абсолюту
Модераторы: The Warrior, Лесная Соня
1 сообщение
• Страница 1 из 1
1 сообщение
• Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Baidu [Spider]