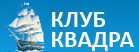Любовь Рыжкова » Вс янв 29, 2012 12:35 pm
Любовь Рыжкова » Вс янв 29, 2012 12:35 pm
Любовь Рыжкова
Белый камень
Как белый камень в глубине колодца
Лежит во мне одно воспоминанье.
Я не могу и не хочу бороться:
Оно – веселье и оно – страданье.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Я ведаю, что боги превращали
Людей в предметы, не убив сознанья,
Чтоб вечно жили дивные печали
Ты превращен в мое воспоминанье.
Анна Ахматова
Как болит голова. Разве я больна? Обыкновенная простуда. И жар, и озноб. А мысли какие-то ясные.
Звуки приглушены. Тишина мелодично звенит. А рядом – никого.
Когда на дворе холод и краснеет нос, и от жуткого ветра сами собой закрываются глаза, – мысли как бы застывают, замерзают. И ничего нет в голове, кроме этого жуткого ветра и боли в висках.
И хочется в такие дни лежать, уткнувшись в мягкую подушку, укрывшись одеялом... И чтобы где-то рядом потрескивал огонь, как в нашей печке.
Он шумит себе... И ему безразлично, что на улице зима, и люди прячут носы в поднятый воротник. Он горит и шумит, и согревает любого, кто доверяется ему.
И ты садишься к столу, берешь ручку, чистый лист бумаги – и бегут строки... Это стихи... Ты мыслишь стихами...
Вот тогда и думы собираются воедино... Ногам в теплых валенках становится уютно. Разгораются от жара щеки. Лицо пылает. И магическая сила огня удерживает около себя. Дай Бог огню быть вечным.
Ну, как не подумать, не поразмыслить в такие минуты о своей жизни?..
Ах, как свирепствует непогода...
Бог с ней, с этой прожитой жизнью... Ничего она не принесла тебе, кроме потерь и боязни быть обманутой впредь.
Бог с ней, с этой твоей невысказанной болью, затаенной тоской – что поделать?..
Возьми палочку, окуни ее в огонь... Он объял ее так заботливо, как никто и никогда не окружал тебя такой заботой. И вот она уже горит... И никого нет дома... Ты и сумерки...
Как, уже наступил вечер? А ты все сидишь в одиночестве у огня и думаешь о жизни...
И снова ложишься в кровать, снова укутываешься потеплее, и тебе уже ни до чего... То ли сон, то ли явь окружает тебя теперь – но такая сладостная – голова кружится, мысли легкие, рассыпчатые... И ты чувствуешь себя счастливой, потому что забытье длится так долго, что ты успеваешь забыть об убогой действительности...
Какой-то шелест тебе слышится нежный... Где это ты?.. Да это же вокруг тебя южная весна, и всюду цветет алыча и слива... И шелестит ветер, касаясь веток, розовых от распустившегося урюка.
И ты выходишь в сад. Ласково гладить свою собаку, она преданно кладет свою мокрую морду тебе в ладони. И долго-долго ты смотришь на синеватые горы. На них уже давно нет снега, и до тебя доносится горный полынный запах.
Счастье пьянит... И ты идешь, задевая головой виноградник, к розам.
Собака твоя тут же, она что-то нашла на сыроватой земле и сейчас занята своими собачьими делами...
И ты садишься на огромное полено карагача и думаешь о том, что бывают в жизни дни – или только минуты – когда счастья так много, что его хочется дарить, отдавать. Иначе ты не выдержишь его мучений и навсегда останешься счастливой.
– Эй, – кричишь ты прохожему, – погоди...
И бросаешься к колючим кустам нарвать цветов... Прохожий остановится, посмотрит... Иной подождет, пока ты сквозь узоры каменного забора протянешь ему неожиданный букет. А другой поспешит уйти... И ты стоишь, не зная, что делать с чудом, которое у тебя в руках...
Собака твоя растеряна, она смотрит тебе в глаза и будто говорит:
– Что это он – от добра бежит?..
И ты улыбаешься умной божьей твари, идешь в дом, оставляя букет на заборе – может, кто возьмет себе на счастье...
***
Ах, что это с моим сознанием? Где я? Разве сейчас весна? Сейчас холод, зима, я лежу с температурой, болью во всем теле. И вспоминаю...
И нет рядом ни цветущих деревьев, ни умной собаки, ни доброго прохожего, ни тепла родного дома... А есть чужие люди, чужие стены, чужая зима и только тоска своя.
***
Это было много лет тому назад, когда я жила золотым семнадцатилетием и ежедневно ждала чуда. И чудо случалось, ибо оно было синонимом жизни.
Тогда-то и появился Дон Гуан, соблазнитель юных дев и расточитель своей души...
И ведь тоже была зима, и он никак не мог ее согреть. Он жаждал совершенства и любил тебя. Он был талантливо и трагически красив.
Вечно гонимый поисками идеала, он обрел его в тебе. А ты ждала Пана и не могла ему поверить. Ты обретала самое себя и писала стихи.
Тебе хотелось изящной простоты в общении с людьми, легкой недозволенности, недосказанности, иной, не похожей на повседневность, жизни. Ты искала людей, предназначенных тебе, а Дон Гуан виделся грубо материальным.
– Как это горько, – произносишь ты ныне.
***
Прошлое пройдено и уже недосягаемо. Будущее непредсказуемо и еще недосягаемо. Но мы замыкаем между ними цепочку. Это наше настоящее, статус кво.
Милый мой Дон Гуан! Все чаще думается о тебе. Где ты сейчас? Я тебя совсем не любила, была с тобой неблагоразумной...
Надо было поступить иначе? Как? Был только один выход – полюбить тебя.
Но где, в какой стране возможно это – полюбить по желанию? Как заставить душу запеть? Как разбудить волшебную струну, которая звенит, не умолкая?
Где они – те силы, те частицы, из которых складывается притяжение друг к другу?
И если нет его – ничто не заставит людей быть вместе. Даже если избранник красив, умен и благороден.
Можно только принять его любовь, смирившись с равнодушием своего сердца. Русские говорят: стерпится – слюбится.
Нет. Никогда не слюбится. Только стерпится. Может появиться только чувство благодарности за любовь. И все.
Ты прости меня, Дон Гуан, за такие мысли... Просто я сейчас больна. У меня жар. Но это быстро пройдет – обыкновенная простуда. Ты прости. Но я и сейчас не люблю тебя.
Отчего же вспоминаю?
***
Потом были долгие годы мучений. Я вышла замуж за того, кого считала своей судьбой. Но он тоже не был Паном.
И ты был в отчаянии... И снова была зима... И мой муж рисовал сиреневый снег... И меня... Он был художник, идеалист. Я боготворила его за талант.
Ты уезжал и приезжал снова... Я встречала тебя с улыбкой и, вероятно, больно ранила безмятежностью и счастьем.
– Послушай, – говорила я, – мой муж – талант, загадка. Он способен на безрассудство и страдание. Способен ли ты остаться загадкой, будучи совсем рядом? Ты – удивительный человек. Я понимаю твои беды. Но зачем идти к людям с такой мрачностью? Люди любят солнце. Мой муж любит солнце. Ты любишь Сарьяна? Вот видишь, ты любишь Васильева'. Но он ведь мрачен. Ах, ты сумрачный мой человек...
***
Молчание... Молчание... Молчание... Оно длилось долго... Ты уходил, уезжал, исчезал... И вместе с твоими отъездами от нас уходила Юность.
Где ты сейчас, вздорная, милая, всепрощающая юность? И если люди лучше всего чувствуют себя в состоянии юности, почему они не сделают ее вечной?
Или в этом возрастном восхождении, как в смене времен года – великий смысл?
Какой?
Хотелось бы мне вернуть прошлое свое? Как и всякому смертному – конечно, да. Но не для того, чтобы прожить его как-то иначе, а прожить и пережить то же самое, испытать те же радости, прочувствовать те же боли...
Однажды мне снился сон... Что это было? Сон? Явь? Сказка? Чудо?
Я несусь по улице, юная, солнечная, полная огня... Что за чудесные улицы? Что за чудесный город? Я тонкая, стройная, ломкая.
Кто-то касается руки... Оглядываюсь... Но никого нет. От толпы отделяется юноша. Он только идет ко мне, а я уже чувствую прикосновение его руки... Может, я видела во сне Бога? От него исходило сияние.
Это был Дон Гуан. Он сказал мне, что пришел за мною. И что сию секунду мы отправляемся к тому, кто предназначен мне судьбою. К Пану.
Откуда-то доносится музыка. Это флейта. И я чувствую силу и счастье.
Пан... Пан... Что за Пан? Где ты? Какой?
Не видя, не слыша тебя, я все о тебе знаю.
Ищу тебя всю свою жизнь. И ты ищешь меня, вглядываясь в лица.
И живем с тобою порознь, хотя, возможно, мы где-то рядом.
Но не сводит, не сводит судьба нас с тобою.
И вот во сне мне обещают долгожданную встречу. И я уже испытываю восторг. Каким же огромным может быть счастье наяву, если бы мы встретили друг друга. Мы – две родные души.
Я слушаю Дон Гуана. Его речи кажутся мне мудрыми, ведь это он ведет меня к Пану. И вовсе не думаю о том, что самому Дон Гуану больно. Наверное, это больно – отдавать любимую другому...
Я подхожу к нему совсем близко. Он очень нежно прижимает мою голову к своей груди. И я засыпаю...
Кто-то рядом произносит:
– На груди солнечного диска...
Я сплю. И думаю:
– На груди лунного диска...
***
Что за сила владела мной, когда снился этот странный сон? Благодарность тебе, милый Дон Гуан? Ты всегда был провозвестником моего счастья и своей нескончаемой боли. Ты был прекрасен своей душой, своей золотой душой, – оттого и светился дивным светом.
А Пана во сне я так и не увидела.
А может быть, ты сам был моим Паном?
На улице зима. И тишина.
И ночь на улице, пушистая, незлая…
И слушаю, как падают, порхая,
твои заснеженные, добрые слова...
Как быстро неслось время, оставляя позади себя потери и тоску. И ничего не обещая в будущем...
Раскладывались пасьянсы, загадывались желания... Что-то сбывалось, что-то оставалось несбыточным.
Пана я так и не встретила. Не увидела. Не узнала. Были только Дон Гуан и Художник.
Мечта моя, судьба моя... Золотая моя тайна...
Будь тихой во мне и ничем-ничем не нарушай прекрасного безмолвия.
Живи во мне, немыслимое счастье мое...
Боль моя... Самодержец души мятежной...
Мечта моя давняя... судьба моя... золотая моя тайна...
Не расточительствую чувствами, но обогащаю, думая о тебе и прекрасном прошлом, с тобою связанным...
Почему так близки эти слова – прекрасное и прошлое? А с чем связуется грядущее? А настоящее – с чем?
Мечта моя... судьба моя... золотая моя тайна...
***
Снова наступала зима, и вместе со снегом ко мне стала приходить печаль... Акварели мужа мне стали казаться бесцветными и глупыми. И твои приезды, Дон Гуан, стали глотком чистого воздуха.
– Почему ты выбрала Художника, а не меня? – спрашивал ты.
– Я была в него влюблена, – оправдывалась я.
– Мне не верится, что я снова сижу у тебя, – продолжал ты, а я перебивала, потому что боялась реальности.
– Ты по-прежнему любишь пасмурного Васильева?
– Да. А ты – солнечного Сарьяна?
– Нет, я давно уже не люблю Сарьяна, – отвечала я.
Ты удивлен, но очень спокоен. Ты даже трагичен, мой милый Дон Гуан. Ты мим. Трагичный мим. Да, да, да, я больше не люблю Сарьяна... Имею я право духовного роста? По крайней мере, метаморфозы вкуса...
И я закрываю лицо руками, чтобы никто не видел моих глаз.
И боль пронизывает сердце. Как же устало ты! Как ты устало, сердце мое! Ты все еще бьешься и бьешься, твои силы еще не иссякли. Но боль – на дне твоем. В глубине.
Ах, выбросить тебя, что ли? – На землю – под ноги прохожим. А мимо люди пройдут. И не заметят. Подумают, что это старый осенний лист, только очень странный.
И наступят – безжалостно и зло.
Зима... И я покрываюсь инеем. Теперь я без сердца, а значит, без тепла.
Я не люблю тебя, милый мой, северный, чудный.
Годы летят. Ты, как прежде, чуть-чуть удивленный...
Не торопи одинокие, блеклые будни,
полные жгучей тоски и любви затаенной...
***
Ты никогда не говорил мне о своей любви. Ты любил.
Ощущение, будто я взлетела на гребень волны... Это от воспоминаний. Отчего, отчего же так много места в этих воспоминаниях занимаешь ты?
Но выслушай, мой Друг, этот монолог-плач. Хоть и нет тебя рядом, – выслушай все равно...
У меня болит голова... Это ничего, обыкновенная простуда. И мне плохо... плохо... плохо... Освободи меня от невыносимого груза воспоминаний. Как благодарна я за нежность, мудрость и светлую твою любовь...
Не плачьте, обожженные разлукой,
далекие любимые глаза.
Поверьте, что возможны чудеса,
не тяготитесь понапрасну мукой.
О, как пусты подобные слова
и как несхожи с болью нестерпимой,
когда подумаешь: с душой твоей любимой
случится может всякая беда.
И чтоб возможны были чудеса,
не понапрасну истерзались мукой
и плачут, обожженные разлукой,
далекие любимые глаза...
Это был твой последний приезд. Тогда я еще училась... Как это прекрасно – учиться, чувствовать себя студенткой.
Семинар. История русской литературы XIX века. Ведет семинар Петрашова. Я сижу на галерке. Задается вопрос. Молчание. Группа не готова.
Петрашова смотрит на меня. Поднимаюсь. Вздох облегчения. Начинаю витийствовать.
А за окном уже темно. Только видно, как осторожно падают снежные хлопья. В аудитории горит свет. Уютно. Тона приглушены. И в тишине – только мой голос.
Говорю долго, целый час. Звонок. Ну вот и все. Занятия окончены. Мы грохочем стульями, собираемся. Сумка – через плечо – домой.
Но тут я вижу твое лицо... Как ты нашел меня? Как ты нашел? Ты молчишь... Ты просто знаешь великую тайну... Я закрываю глаза... И все начинает кружиться, – просто ты несешь меня на руках.
И тебе безразлично, что вокруг преподаватели и студенты, и что внизу меня ждет Художник. Но ведь я не люблю тебя, не люблю как будто...
Садимся в такси. Мелькают зимние улицы.
– Домой, – бросаешь ты водителю.
– Не хочу... В парк... мой любимый... пушкинский...
Идет снег. Он сегодня добрый. Мы хохочем, болтаем глупости, лепим снежки и совсем не мерзнем...
– Я устала,– говорю я. И ты провожаешь меня домой.
***
А на следующий день будет дивная погода, и мы с девчонками захотим отметить солнечный денек. Мы – это Верейская, Тагорова и я – уходим в наш любимый скверик. У нас с собой ром и крабы.
Мы пьем изящно. Из золотистой пробки. Нам жарко. Хмельно. И очень поэтично.
На нас снисходительно смотрит Пушкин. Одну руку он убрал за полу сюртука и оттого кажется уютным и домашним. Своим. Уж он-то понимает нас своей мятежной душой.
Тагорова садится на бордюр, мы восседаем на лавочке. Чиркаю спичкой – потухла. Снова – потухла.
– Что ты делаешь, – кричит Верейская, – надо не так. Она что-то мудрит, наконец, закуривает. И забывает, что это была моя сигарета.
Тагорова не удерживает равновесие, валится. Я тяну руку помощи и беспокоюсь: испачкаешь шубу...
Она выпрямляется и вопит:
– Стихи, стихи заказ-зую...
И льются стихи... о любви, тоске, солнце, разлуке, снеге...
– Ты молодец,– заключает кто-то из них, – но надобно еще приложиться...
– Дабы очистить сердце свое от скверны, – подхватываем мы хором...
Тогда мы не знали, как сложатся наши судьбы, но были счастливы. У каждой были свои романы, увлечения, кипение страстей. Но когда мы были вместе – наступали минуты всеобщего благоденствия.
Сами годы красили и оправдывали любые сложности. Как быстро забываются в юности эти сложности. Новая книга, новое стихотворение, новый день – и все как рукой сняло. С годами это уходит.
Но пока мы в пушкинском сквере. И Верейская учит меня жизни:
– Чем ты недовольна? Что ты брыкаешься? Ты пиши свои стихи. А жизнь рассудит. Дон Гуана не гони. Иногда и бездействие полезно.
И пока мыслью я с вами, мои девчонки, – тепло душе и сладко-грустно. Быстро только пронеслось это ни с какими прелестями не сравнимое время.
И через годы я снова с вами... С тобой, Верейская... Помнишь, у Эдика-Эсхила что-то такое переписывали, пили вульгарную водку, а потом на улице каким-то чудом взобрались на гараж. Решили сфотографироваться... для благодарной истории. Ты-то была в джинсах, а каким ветром меня туда занесло в широкополой юбке – не помню.
У меня сохранился этот снимок. Ты, Верейская, в кепи с лихо заломленным набок козырьком... И я – в лирическом берете и ажурных перчатках...
Вы часто с Тагоровой приезжали ко мне. Мы пили чай, читали стихи, обсуждали сердечные дела и вели бесконечные литературные разговоры.
Кто-то из вас писал курсовую о Катюше Масловой, и мы восхищались языком Толстого. Глаза Катюши – как мокрые черные смородины. – Нас приводило в восторг это сравнение.
А еще мы обожали теорию литературы и буквально сходили с ума, доказывая недоказуемое, – например, что такое стиль.
Господи! Как хорошо и дружно было нам!
Пушкинский сквер. Ром и крабы. Мокрые черные смородины. Теория литературы. И суровая правда жизни. Практика.
***
Мы часто с Верейской ездили на мое свидание с Дон Гуаном. Помню только какие-то персики и шампанское. Я наблюдала. Верейская болтала без умолку:
– О, Калининград – прекрасный город. Вы оттуда? Культурка... Самое главное – культурка...
Он терпеть тебя не мог. Особенно его угнетало твое пошловатое словечко «культурка».
Бедный мой Дон Гуан не знал, как тебя спровадить. Наконец, тебя сажали в такси и благословляли путь.
А сам Дон Гуан становился тихим, брал мои руки, окунал в них свое лицо и едва-едва касался добрыми губами...
Ты был бескорыстен, но упрям. И меня всегда завораживали твоя сила и настойчивость. Вероятно, ты добился бы моей благосклонности, если бы хоть искра чувства теплилась во мне. Но что было с моей стороны? Что?
Ах, что теперь говорить об этом. И где ты сейчас, мой добрый Дон Гуан?
Сейчас ты только в памяти моей.
У Ахматовой есть необыкновенная строка:
Чтоб вечно жили дивные печали, –
Ты превращен в мое воспоминанье...
Не хочется возвращаться мыслью к настоящему. А если вспомнить горы, море, палатки, ночные купанья, запах полыни, дымок костра от сжигаемых инжирных веток, утренние акварели, прозрачные утра – я хочу жить.
***
Был у меня в студенчестве учитель – наш необыкновенный Ник Никыч. Ростом – невысок, телом – худощав, – чеховский интеллигент. И как в этом маленьком теле умещалась большая душа?
Я помню лекционный зал и вас, Ник Никыч, но не за кафедрой, а совсем близко от нас, третьекурсников.
Мы чему-то глупо посмеиваемся, переглядываемся... Но вы заговорили, и сразу становится тихо:
– Иван Карамазов – это бунт. Это нигилизм. Достоевский сам боится этого западничества. Но боль за человечество берет верх...
И мы слушаем, затаив дыхание. А вы в экстазе, размахиваете руками, отчаянно жестикулируете. Поражала удивительная мимика вашего лица. Вы весь в эту минуту – продолжение Достоевского.
– Федор Карамазов, – кричите вы, – шут. Шут, искалеченный судьбой. Вино и женщины – вот все что он живет. Но он честен. Конец старика трагичен... Помните – символическую розовую ленточку?
И я бегу с лекций ваших не домой, Ник Никыч, а в библиотеку. Меня бьет дрожь... И я окунаюсь, купаюсь в «Карамазовых»...
Добрый, милый Ник Никыч, скажите мне, Учитель и Друг, как мне нынче жить? Вы же все знаете.
А Федор Карамазов издевательски орет: «… меня все за шута принимают, – так вот давай же я и в самом деле сыграю шута, потому что вы все до единого глупее и подлее меня...».
А сейчас я вспомнила строки одной поэтессы:
Толпа смеется над шутами,
Шуты смеются над толпой.
***
Ночь накатывается на меня... Тяжелая ночь... Я ведь совсем одна. Почему никто не придет в гости – сейчас, среди ночи?
Я бы пожаловалась на головную боль. Рассказала бы о том, что недавно прочла книгу об Анне Павловой, акварельной танцовщице. О том, что жизнь переворачивает страницу за страницей. Безмолвный мир танца ожил...
О том, что Вацлав Нижинский – тоже шут, гонимый толпою. Изгой. Петрушка. Царь балетный. И сердце его как видение розы. И танец его как ветра вздох.
Он был так поглощен своим искусством, что не выдержал вечного вдохновения. И в тридцать лет сошел с ума.
В искусстве это случается. Нельзя быть равным Богу. Это наказуемо.
Если бы сейчас, сию минуту, открылась дверь, и на пороге показался Дон Гуан... Я бы рассказала ему, что от мужа я ушла. Он так ничего и не понял.
А что касается одиночества – да, плохо быть одной. Некому высказать наболевшее. Но ведь страшнее одиночество такое, когда и человек рядом, а высказать все равно некому. Так уж лучше из двух зол – меньшее.
Не клади ты мне руки на плечи –
я объятий твоих далека...
Все мне слышатся давние речи
и родная – другая рука.
Влюбленность прошла. Розовый туман рассеялся. Одиночество осталось. И с этим нужно было смириться. И как-то продолжать жить.
Я и живу.
По сей день.
***
Взгляд – ретро... С тихой тайной горечью сижу за столом и пишу эти записки, которые даже не знаю, как назвать... И в каком жанре это написано?
Дневник? Лирическая миниатюра? Эссе? Письмо к себе? Бог с вами – кому как нравится.
У Ахматовой есть строчки:
Как белый камень в глубине колодца
Лежит во мне одно воспоминанье...
Это – моя жизнь. Это – мой «белый камень в глубине колодца», мое сокровенное воспоминание. Но я по-прежнему пишу с предельной искренностью, на какую способна. И не боюсь быть откровенной.
Я лучше знаю, чем вызвано к жизни каждое слово. Как появилась на бумаге каждая строка. И какого цвета были мои чернила.
Конечно, я понимаю, что за откровением следует расплата.
Но можно ли наказать расправой человека, если он уже распят на великом кресте Литературы?
Впрочем, это – лирическое отступление от сюжета. Просто сегодня болит голова. Обыкновенная простуда.
Ночь. Зима. И мороз. И снег.
Сплю – И снится родной человек.
Слышу: кто-то моей руки
прикоснулся. Проснулась – ни зги...
Приоткрою чуть-чуть окно –
ночь. И снег. И душе светло.
Вновь заснуть я уже не смогу.
Тихо лампу впотьмах зажгу.
Разыщу письма давних лет,
прочитаю любимый сонет...
Нынче холодно. Нынче мороз.
И зачем тебя Бог принес?..
Если бы сейчас пришел Дон Гуан...
– Девочка, – говорил ты мне в последний раз. – Я живу тобой, но без тебя. Я иду мимо твоей жизни, как мимо родного окна. И каждый раз смотрю с надеждой в это окно...
Господи, как разобраться в этом страшном мире, придуманном Тобою, как говорят, для счастья? И почему человека, который меня Любил, я называю Дон Гуаном? А человека, который был моим супругом – Художником?
И все мне кажется... сейчас, вот сейчас я услышу родной стук... Ты придешь сюда ко мне, в эту промозглую ночь. Обнимешь обеими руками.
И будем мы долго-долго, замерев, стоять у порога... Словно боясь разрушить прелесть новой и, может, нашей первой настоящей Встречи.
Но никто не стучит. Я одна. И тишина как вечность тяжела.
И одиночество опустилось на меня, осязаемое, но невидимое существо...
Уж наступал рассвет – ночные краски блекли.
И сизоватый день на горло наступал.
От слез глаза твои уже полуослепли –
так, может быть, никто любимого не ждал.
***
Открываю глаза... Рассветает... Тянусь к окну, открываю шторы и вижу волшебную, но очень грустную ночь...
Снег все идет и идет... И будет идти, наверное, весь день. Но мне все равно...
Ветви склоняются близко-близко к земле. Им тяжко от снега... И они ждут, когда же ветер стряхнет с них хотя бы частицу этой тяжести...
Как я понимаю вас, деревья. Как вы понимаете меня.
И ты прости меня, Дон Гуан, за то, что я была такой счастливой. Жизнь отплатила мне за это счастье. Отплатила – вот этой ночью...
Поется так светло,
как только прежде пелось...
Но даже Музы
не закроют в сердце дыры.
Но это славно –
если боль не отболелась, –
звучать и петь еще
притихшим струнам лиры...
Ты, верно, никогда не узнаешь об этой моей теперешней слабости... Но я вспоминаю и помню тебя.
И очень благодарна за нежность, мудрость и светлую твою любовь.
Я обнимаю тебя нежно и целую уставшие глаза твои.
1982 г.
Произведение впервые опубликовано в книге:
Сочинения в стихах и прозе в 2 томах. Том 1. Homo scribens. Сочинения в прозе. – Рязань: Ринфо, 1997. – 386 с.
ISBN 5-85-057-119-1
Я не женщина. Я – стихотворная строчка.
 Homo scribens. Сочинения стих-ий и прозы, т. 1. – Рязань: Ринфо,1997. – 388 с.
Homo scribens. Сочинения стих-ий и прозы, т. 1. – Рязань: Ринфо,1997. – 388 с.  Сотаинник. Соч. стих-ий и прозы, т. 2. – Рязань: Ринфо, 1998. – 400 с.
Сотаинник. Соч. стих-ий и прозы, т. 2. – Рязань: Ринфо, 1998. – 400 с. Волшебный букварь. Уч.-мет. пос. по развитию речи. – М.: Гармония, 2004.
Волшебный букварь. Уч.-мет. пос. по развитию речи. – М.: Гармония, 2004.  Зарифмованный дворец. – М.: Флинта, 2004. – 368 с.
Зарифмованный дворец. – М.: Флинта, 2004. – 368 с.  Золотая пыльца. Проза. – Рязань: Скрижали, 2007. – 352 с.
Золотая пыльца. Проза. – Рязань: Скрижали, 2007. – 352 с. Солнечная история. – М.: Белые альвы, 2007. – 512 с.;
Солнечная история. – М.: Белые альвы, 2007. – 512 с.;  Духовные воители Руси. – М.: Осознание, 2008. – 268 с.;
Духовные воители Руси. – М.: Осознание, 2008. – 268 с.;  Августейшая ночь. Философская лирика. – Рязань: Скрижали, 2009. – 208 с.;
Августейшая ночь. Философская лирика. – Рязань: Скрижали, 2009. – 208 с.;  Русь легендарная. Поэтический перевод ВК с историческими и лингвистическими комментариями. – М.: Белый город, 2011. – 224 с. : 329 ил.
Русь легендарная. Поэтический перевод ВК с историческими и лингвистическими комментариями. – М.: Белый город, 2011. – 224 с. : 329 ил.